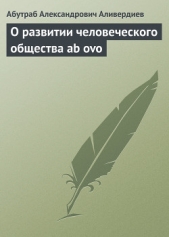Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
153
почти определенно книгу Ницше не читал и ее автора не знал - во всяком случае, нигде и никогда не упоминал, но определенный резонанс книга вызвала уже при появлении и, глубоко войдя в сознание русских писателей следующего поколения, вполне могла создавать тот «магический кристалл», через который в дальнейшем воспринималась повесть. Этой темы в ней нет, но она в повести «дремлет».
Выводы из анализа сводятся к трем пунктам. Во-первых, никакое создание культуры и искусства не исчерпывается содержанием, вложенным в него автором, в нем всегда обнаруживается гораздо больше, чем мы думали и знали. Во-вторых, текст откликается на восприятия, не связанные с авторским замыслом, и в ходе таких восприятий деконструируется. В отличие от «произведения» он оказывается совокупностью мотивов, приходящих извне текста, хотя и скрыто в нем тлеющих. Текст, другими словами, живет и длится, никогда не кончен и всегда открыт в будущее. В-третьих, выходя за рамки произведения как такового, семиотические приемы истолкования оказываются двойственными: они, с одной стороны, позволяют проникнуть в «тлеющие» смыслы текста и читать его углубленно, в его историческом движении, с другой — всегда содержат риск оторваться от исходного реального ядра текста, деконструировать его до конца и превратить в совокупность несвязанных с ним мотивов, — в лучшем случае, толковать произведение в категориях, ему посторонних, а в худшем — внести в него то, чего в нем нет, т. е. фантазии и произвол.
В 1790-е годы Гёте в своем романе «Годы учения Вильгельма Майстера» (ч. I, гл. 13) интерпретировал шекспировского «Гамлета», прочтя его глазами юноши, оказавшегося растерянным перед грандиозными задачами, которые в годы Великой французской революции история поставила перед его поколением и всей мыслящей Европой. Через много лет Тургенев (в статье «Гамлет и Дон Кихот», 1860) пережил сюжет шекспировской трагедии на основе опыта ше-стидесятнического поколения русской интеллигенции, готовой — или не готовой — влиться в освободительное движение у себя на родине. Ни того, ни другого, разумеется, у Шекспира нет, но есть предельно емкая ситуация, которая готова принять в себя те толкования, что вкладывает в нее история; нет никакой деконструкции шекспировского сюжета, но есть означающие, открытые новым означаемым, а значит — движение от (не «из»!) «произведения» в «Текст». Но когда уже в наше время знаменитый английский актер Лоуренс Оливье читает реплику Гамлета (акт III, сцена 2), обращенную к королеве: «Нет, матушка, тут магнит попритягательней» как
154
проявление его былых противоестественных любовных отношений с матерью, то означаемые при таком чтении навеяны только модным в середине XX в. увлечением фрейдизмом. Означаемые, выросшие из Фрейда (или скорее из его популярных изложений), не опираются ни на какие означающие в тексте Шекспира, противоречат духу и смыслу не только его «произведения», но и его «Текста». При таком прочтении трагедия перестает быть созданием автора, единым целым, конструкцией и становится суммой отдельных элементов сюжета, находящихся во внешних перекличках с мотивами, актуальными в культурном обиходе данного времени, т. е. предстает как результат деконструкции. Такие деконструкции распространяются сегодня стремительно, все шире и шире, как в художественной (в частности, сценической) практике, так и в практике исследовательской. Достаточно напомнить о мелькнувшей на наших телеэкранах героине пушкинского «Графа Нулина» за рулем автомобиля или об упреках, обращенных Владимиру Соловьеву в незнании им современного французского философа Левинаса, да и о многом другом.
Не станем погружаться в анализ глубинных общественно-философских истоков описанной ситуации, связанных с кризисом так называемой идентификации, т. е. с расхождением в условиях цивилизации постмодерна человеческого индивида и культурной традиции, с утратой их способности опереться друг на друга и черпать друг из друга животворные силы. Ограничимся краткими замечаниями, касающимися тех условий, при которых использование семиотических методов анализа в педагогической и исследовательской практике остается ценным и плодотворным в обход тех тупиков и трудностей, о которых только что шла речь,
То, что мы сочли означающим, действительно является означающим, и то, что мы рассматриваем как означаемое, действительно может быть признано означаемым, только если они принадлежат культурно-исторической системе своего времени и такая принадлежность может быть доказана. В приведенном примере с любовью Блока к Н.Н. Волоховой предложенный нами анализ может быть обоснован тем, что такое отношение не столько даже к женщине, сколько к женскому началу вообще присуще всей системе поэтического мировоззрения Блока и повторяется ранее в его стихах о Прекрасной даме, позднее в стихах о Кармен, а еще позже в стихах о России. В этом контексте слова «ночная дочь иных времен», отнесенные к реальной женщине, вполне очевидно могут быть признаны означающим. Точно так же, сквозь при-
155
зму «вечной женственности», как означаемое переживали эти циклы Блока, опираясь на опыт своего времени, документированный стихами и теоретическими высказываниями Вячеслава Иванова, Андрея Белого и многих других, и его современники, и несколько позднейших поколений русской интеллигенции. Напротив того, попытки, например, прочесть любовь поэта к героине «Фаины» как чисто плотскую могли бы опираться на некоторые отдельные детали в стихах данного цикла, но выпадали бы из системы поэзии Блока и из системы позднейшего ее восприятия, а потому были бы плодом произвольной деконструкции и не вели бы к адекватному пониманию и углубленному переживанию конкретно-исторического явления русской поэзии и культуры.
Как мы пытались показать на примере повести Тургенева, семиотический Текст вбирает в себя позднейшие смыслы, в исходном замысле возможные, но непосредственно и прямо в нем отсутствующие. Поэтому выводы из семиотического анализа всегда остаются более убедительными, чем доказательными. Доказательность есть стихия «произведения» и опирается на прямой смысл документов, с ним связанных. Дело семиотика, который работает не только с «произведением», но и с Текстом, строить свой анализ системно и потому убедительно, проверяемо, но на однозначную документальную доказательность он претендовать не может и не должен. Что предпочтительнее — внесение в науку человечески переживаемого эмоционального элемента или сохранение в ней логически-рациональной точности выводов, об этом каждый волен судить по-своему. Надо только добавить, что первая из этих альтернатив больше соответствует историческому опыту ныне действующих поколений и условиям цивилизации, в которой мы оказались в конце XX в.
Свобода каждого «судить по-своему» о путях и результатах культурно-исторического познания ограничена тем понятием, без которого немыслимы ни человеческое общество, ни познавательная деятельность, ни ее нравственный смысл, — понятием истины. Исследование, семиотическое или любое другое, заслуживает своего названия, только если исследователь исходит из стремления к истине и своей ответственности перед ней. В этом предварительное условие и залог нравственного — а значит, и познавательного — смысла научной деятельности вообще, в гуманитарной области в частности. Тот факт, что каждый переживает истину по-своему, ни в коей мере не означает, что она чисто субъективна и для одного существует, а для другого нет. Речь идет
156
только о субъективном переживании объективной для данной эпохи и данного коллектива истины, доказуемой в той мере, в какой человек может понять человека, и императивной в той мере, в какой человек- если он человек— должен стремиться понять другого. Пытаясь соединить в знаке объективно-материальное бытие означающих и заключенное в означаемом переживание их историческим человеком, стремясь проникнуть в «человеческую вселенную как знаковую вселенную», семиотика культуры подходит ближе других к решению задачи, стоящей сегодня перед гуманитарным знанием.