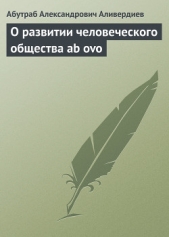Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
24Барт Р. Структурализм как деятельность// Барт Р. Избранные работы… С. 260.
Знак, текст и его деконструкция
Вывод из всего вышесказанного состоит в том, что знаковый язык универсален. Читатель мог убедиться, например, как на языке знаков раскрывает свой культурно-исторический смысл материально-пространственная среда, окружающая каждого из нас, — архитектурная и повседневно-бытовая. Вспомним. За трехэтажным зданием на соседней улице, окрашенным в желтый и белый цвета, с обычными окнами в нижнем этаже, лежащем прямо на земле, с вытянутыми высокими окнами в бельэтаже и с малыми квадратными окнами в верхнем этаже, с пятью или шестью колоннами над центральным входным портиком всплывает в сознании слово «классицизм» или слово «ампир»: выстраивается образ Российской империи александровского или николаевского времени со всем длинным шлейфом ассоциаций — императорские смотры и вольнодумцы в гусарских мундирах, Москва Чацкого и Фамусова, триумф двенадцатого года, декабристы и Союз спасения, Пушкин и Чаадаев. Причем образ этот возникает в нашем сознании именно как образ, вбирая в себя все ранее вошедшие в него сведения — имена и даты, факты и события, но никогда не сводясь к ним, живет как образ, место которого не только в голове и в памяти, но и в душе и в эмоции. Воспринимается он у меня в душе положительно или отрицательно —другой вопрос; восприятие это зависит от моей духовной и личной биографии, от моего опыта, моего мировоззрения, но он всегда остается образом, т. е. эмоцией, а отразившаяся в нем история — переживанием. История предстает как книга, которую можно читать, но каждую страницу которой можно и важно еще и пережить, пережить именно за счет того, что любой предмет своего времени — означающее; сложившееся на протяжении жизни, чтения и учебы мое отношение к нему - означаемое; образ, в который они сплетаются и в котором предстает история, — знак.
…Импрессионизм в живописи в широком смысле слова — стиль, распространившийся в Западной Европе и в меньшей сте-
147
пени в России в последней трети XIX и в первых, одном-двух, десятилетиях XX в. В его основе — открытие неяркой, на первый взгляд и неприметной, поэтичности самой простой, самой обычной окружающей жизни. Вот, например, заурядное произведение французского импрессионизма — обычная, малоизвестная картина «В столовой» (1886) мало известной французской художницы Берты Моризо. Часть тесной комнаты, в глубине которой окно, за ним серенькое зимнее парижское небо, справа видна часть стола с не до конца убранной посудой, оставшейся от завтрака, слева — большой буфет, в центре стоит молодая — но не слишком молодая — женщина в обычном утреннем глухом платье и переднике. Цветовая гамма отражает сюжет — ни одного яркого, необычного тона; поэтичность красок — это угадываемая поэтичность самой сцены. Картина вызывает теплое эстетическое чувство, отдать себе отчет в котором очень трудно, почти невозможно. Никто из нас не был в Париже XIX в., не видел французской квартиры средней руки тех лет, но представленное на полотне будит смутные полувоспоминания — разумеется не о виденном, а о прочитанном (Пруст? Франс?), о слышанном от лектора в институте или от экскурсовода в музее, о картинах той поры в местном музее; будит то, что живет (у одного живет, у другого не живет) на дне души, на грани эмоции и полузнания. Сочетание красок и линий — знак, реальность столовой и вещей в ней — означающее; оно живет и меняет свой смысл в зависимости от того, что я способен в нем увидеть, т. е. другими словами — от дремлющего во мне означаемого. Можно, конечно, от всего этого отвлечься, не вспоминать ни о какой семиотике и сказать прямо, уверенно и с необходимыми доказательствами, что перед нами — реализм, но не критический, а еще окрашенный романтизмом, примирительно отражающий буржуазную действительность капиталистической Франции XIX в. Все правильно, только открылось ли мне что-нибудь для меня внутренне существенное в истории Франции той поры, в ее жизни, в духе, в ней разлитом?
Еще пример. Константин Коровин. «Зимой». 1894 г. Та же в широком смысле слова импрессионистическая эстетика, та же неяркая природа, неяркий сюжет, неяркая — от серо-белого до оттенков бурого — цветовая гамма. Одинокая полуразвалившаяся изба, на горизонте, за заснеженным полем, лес, на переднем плане выщербленный частокол, между частоколом и избой, спиной к зрителю, лошаденка, запряженная в розвальни. Но означаемые, придающие картине смысл и определяющие ее восприятие, — не парижские, не отдаленные, не столько литературные,
148
сколько экзистенциальные. Такой деревни фактически больше нет, но память — по-научному она называется генетической — о деревенском корне русской жизни и русской истории живет в душе каждого российского человека, у одного, старого, видевшего еще эту деревню - до боли яркая, до боли интенсивная, у другого, пришедшего в жизнь позже, по-другому окрашенная, но тем не менее живет и тем не менее живет не так, как в предыдущем примере. Означаемое — подвижно, изменчиво, исторически конкретно, за счет этой подвижности живет знак, и произведение искусства существует всегда как то же самое и всегда как впервые представшее взорам зрителя.
Еще одна, казалось бы несколько неожиданная, сторона знака. Стихотворные циклы из второго тома «Стихотворений» Блока, озаглавленные «Фаина» и «Снежная маска» (1906—1908), посвящены актрисе театра Комиссаржевской Наталии Николаевне Волоховой (Анциферовой). Ее воспоминания ныне опубликованы. В них она настойчиво повторяет мысль о том, что ее образ, «прочитанный» Блоком и запечатленный в стихах обоих циклов, не соответствовал ей как человеку и женщине. Некоторые детали ее внешности, некоторые черты ее личности обретали в поэтическом мире Блока этих лет особое наполнение, диктовались им, этим миром, в гораздо большей мере, нежели непосредственной реальностью. Героиня обоих циклов, «ночная дочь иных времен», явилась знаком, образом, неповторимого мгновения русской петербургской культуры, возникшим «по поводу» определенных черт и особенностей данной женщины, но выросшим во всей своей художественной глубине и полноте из поэтического космоса, из поэтического сплава этих лет, жившего в душе поэта и разделявшегося людьми его круга и времени. И разве по-другому начинается любовь с первого взгляда у других, обычных людей? Те же неприметные черты встреченного человека, бросившиеся вам в глаза— не потому, что они так уж прекрасны и особенны, а потому, что они сказали что-то именно вам, пробудили смутную гамму чувств симпатии, внутреннего соответствия, растущего отсюда желания отрадной близости.
Семиотический анализ позволяет проникнуть в самые зыбкие, самые трудноуловимые положения современной жизни. В научной прессе в последнее время стал встречаться термин «колониальная семиотика». Речь идет о том, что при крайней подвижности современного населения люди из бывших колоний нередко попадают в бывшие метрополии и, читая рекламы, вы-
149
вески, объявления, инструкции к пользованию автоматами и т. д., понимая их прямой смысл, не улавливают те намеки, те остроты, те эмоциональные обертоны, которыми подобные тексты бывают окутаны для людей, проживших здесь всю жизнь. Они не опираются ни на какие означаемые, соответственно не становятся означающими, и знаковый эффект — т. е. смысл в полном объеме — не возникает. Человек живет в чужой, непрозрачной среде.
Итак. - Одежда, архитектура, среда, искусство, любовь, социокультурное самоощущение — жизнь во всех ее проявлениях — се-миотичны, несут в себе знаковые смыслы и через них становятся культурно, общественно, исторически внятны. Большой вклад в семиотику культуры внесла французская исследовательница болгарского происхождения Юлия Кристева. Ей принадлежит формула: «Человеческая вселенная — это знаковая вселенная». Приходится признать, что она права.
Но если человеческая вселенная — это знаковая вселенная, если история и общество, в которых живет человек, постоянно меняются, меняются события, атмосфера жизни, видение действительности, вместе с ними, следовательно, меняется общественный и культурный опыт, на основе которого человек переживает знак, а значит — меняется означаемое, а значит — и сам знак, то насколько же стабильна оказывается сама эта «знаковая вселенная»? Насколько стабилен и в своей стабильности внятен нам мир, в котором мы живем? Насколько устойчивы, насколько остаются с течением времени равными самим себе в своих характеристиках отдельные эпохи истории, явления культуры, те или иные произведения искусства? И как же можем мы говорить о них объективно, убедительно, их анализировать, строить представления о них — не ошибочные или случайные, а верные и проверяемые?