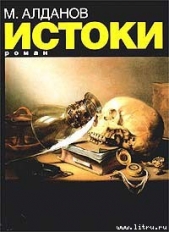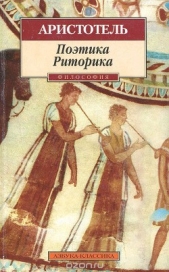Риторика и истоки европейской литературной традиции

Риторика и истоки европейской литературной традиции читать книгу онлайн
Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как “жанр” и “авторство”. В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Филологи не могут и не должны перестать говорить об « эпистолярном жанре», о «жанре» диатрибы, может быть, и о «жанре» мениппеи. Однако этим нельзя заниматься в состоянии методологической самоуспокоенности. Умственному эксперименту, в котором мы даем статус термина одному из литературных «словечек» античности, для самой античности термином не являвшемуся, должна отвечать острота понимания некоторой условности всей этой процедуры.
2
Достижения античной культуры — настолько необходимый элемент нашего собственного ежечасного культурного обихода, что нам нелегко осознать степень их качественного отличия от всего, что им предшествовало. Так обстоит дело и с античной концепцией литературного жанра. Нужно серьезное усилие ума, чтобы представить себе, какие сдвиги — не только в эволюционном развитии поэтики или риторики как частных дисциплин, но и в революционном становлении нового типа культуры, где все по-иному, чем прежде, — отражает хотя бы дефиниция жанра у Аристотеля [42].
Очень важно уже то, что Аристотель сознательно описывает жанр как внутрилитературное явление, распознаваемое по внутрилитератур-ным критериям. Эта его установка подчеркнута тем обстоятельством, что как раз трагедия была через театр, через связь зрелища с культом Диониса и т. п. неразрывно связана с внелитературной реальностью. Все это намеренно исключается из рассмотрения. Аристотель вводит впервые тему трагедии, говоря не о «трагедии», а о «сочинении трагедии» [43]. Примечание М. JI. Гаспарова к этому месту поясняет: «“Сочинение трагедии”, а не просто “трагедия” — чтобы отвлечься от ее зрелищной стороны» [44]. Единственная внелитературная реальность, бегло упоминаемая в аристотелевской дефиниции, — это музыкальное сопровождение, но и этот момент вводится лишь по связи со стиховым метром, т. е. с литературным качеством текста. О зрелищной стороне сказано: «...зрелище хотя и сильно волнует душу, но чуждо нашему искусству и наименее свойственно поэзии: ведь сила трагедии сохраняется и без состязания, и без актеров, а устроение зрелища скорее нуждается в искусстве декоратора, чем поэтов» [46]. Литературная реальность совершенно четко осознана как реальность sui generis, специфический предмет для мысли, еще на пороге рассуждения отделенный мыслью от всех других предметов.
Как мы имели случай говорить в другом месте, ситуация жанра, которую застала и преодолела греческая культура, была совершенно противоположной [46]. Ранние фазы словесного искусства характеризуются синкретической неразличенностыо этого искусства и обслуживаемых им внелитературных ситуаций — ситуаций бытовых и культовых, что для архаики более или менее одно и то же. Во избежание недоразумений подчеркнем, что речь идет вовсе не о какой-то исключительной «сакральности» всех форм раннего словесного искусства или об их жесткой регламентированости в равной степени у всех народов и во всех древнейших цивилизациях, что явно противоречило бы этнографическому материалу и историческим сведениям; как удельный вес культурно-церемониального элемента в строгом смысле этих слов, так и регламентация творчества в одних случаях — больше, в других — меньше. Мы хотим сказать другое: как бы с этим ни обстояло дело, обряд в широком смысле слова остается универсальным способом оформления бытия и быта человека в традиционном обществе, и до тех пор, пока словесное искусство не получает своей собственной территории, огражденной от всех остальных жизненных «доменов», обрядовость прямо или опосредованно остается для этого вида творчества почвой — иной почвы просто нет.
Разумеется, сказанное наиболее очевидно в применении к обрядовой поэзии в самом буквальном, узком смысле этого слова, например к культовым песням или к причитаниям: нет нужды разъяснять, что в этих случаях характеристика жанра как такового входит в характеристику обстановки ритуала и наоборот, так что одно, по существу, нельзя отделить от другого. Здесь жанровые правила — непосредственное продолжение правил ритуала и, шире, правил житейского прили чия в их архаическом варианте. Однако mutatis mutandis сказанное продолжает быть верным и в более сложных случаях, там, где нет качества обрядовости в ближайшем, наиболее буквальном смысле, а есть соотнесенность с общим принципом обрядового оформления жизни, пронизавшим весь архаический уклад. Например, речь «пророка», «прорицателя» или «мудреца», украшенная игрой звуков, слов и метафор, не будучи ритуальной в простейшем значении термина, входит в ритуал или церемониал явления перед людьми такого рода маркированного лица [47]. Как на похоронах полагается причитать, пророку или мудрецу полагается говорить в особой манере. Стиховой ритм «Дхаммапады» или ветхозаветной «Книги Притчей Соломоновых» в контексте эпохи не самодостаточный литературный факт версификации, но отражение того обстоятельства, что общественная условность обязывала «мудреца» говорить речитативом и с ритмическими телодвижениями.
Важно и другое обстоятельство: когда архаическое словесное искусство отходит от бытового и ритуального обихода, жанровая номенклатура становится пропорционально степени этого отдаления менее ясной и четкой: твердые критерии для идентификации жанра даются внелитературной обстановкой, остальные критерии еще не работают. Каждый из жанров обрядовой поэзии получает фиксированное, недвусмысленное обозначение — ясно, чиЗ он такое, потому что ясно, при каких обстоятельствах он является уместным. Но та же самая жанровая форма речи «мудреца» обозначалась на древнееврейском языке словом «машал» (masal)— и слово это буквально обескураживает нас своей семантической неопределенностью: этой «присказка», и «афоризм», и «притча», и «аллегория» вообще. Еще не существует мышления в жанровых категориях, которое определяло бы жанры из самой литературной реальности, и это положение, так сказать, естественно. Только умственная революция может его преодолеть.
Переход к развитой рефлексии о литературной реальности как таковой в Древней Греции V—IV вв. до н.э. и был умственной революцией первостепенной важности, точнее, одним из моментов широкой умственной революции, сделавшей возможными наряду с гносеологией и логикой — обращением мысли на самое себя, и теорию языка, поэтику и риторику, т. е. обращение мысли на слово и словесное искусство. Если бы процесс был эволюционным, а не революционным, атмосфера скандала, овевавшая инициативу софистов, никогда не сгустилась бы до такой степени. Комедия Аристофана «Облака» исчерпывающе показывает heim, что думал отнюдь не глупый и не примитивный афинянин об усилиях кружка умников, покусившихся внести неуемную рефлексию, экстравагантную технику формализации мысли туда, где ничего подобного не было.
Появление теории жанров — это прорыв извечной инерции, победа эллинского рационализма над косностью дорефлективного культурного обихода. Но победа эта состоялась с самого начала на ограниченной территории, а инерция на то и была инерцией, чтобы, как всегда, торжествовать повсюду, где слабел или куда не доходил натиск рационализма.
Теория литературы, созданная в ходе аттической интеллектуальной революции, оформляла себя двояко: как поэтика и как риторика. При этом развивались обе дисциплины в различных условиях. Риторика преподавалась в школах как основной гуманитарный предмет и была неразрывно связана с каждодневной рутиной самовоспроизведения культуры; не только практика, но и теория риторики — для античности хлеб насущный, без которого невозможно обойтись, ощутимое присутствие этой теории — инвариант меняющегося культурного обихода. Трактаты по риторике, прямо или косвенно соотнесенные с учебным процессом, постоянно пишутся заново, а уж их изучение вообще не прекращается. Другое дело — поэтика: ее история прочерчена пунктирной, прерывающейся линией. Гениальный трактат Аристотеля не нашел в пределах самой античности резонанса, не создал традиции. Но так или иначе — двуединство поэтики и риторики исчерпывало возможности систематического теоретико-литературного описания жанров; за пределами этого двуединства можно отыскать только спорадические замечания, признания, декларации, включенные в текст самих литературных произведений, от парабас Аристофана до эпиграмм Марциала — материал такого рода очень интересен, однако по самой своей сути не может давать системы, и сама возможность вычитывать из него теоретико-литературный смысл связана с наличием более систематических типов рефлексии.