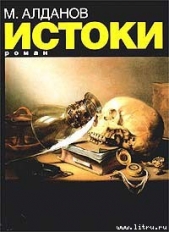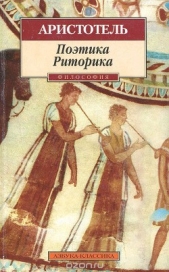Риторика и истоки европейской литературной традиции

Риторика и истоки европейской литературной традиции читать книгу онлайн
Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как “жанр” и “авторство”. В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этой связи не менее характерно и показательно, что в одном месте Аристотель ставит в ряд поэтические жанры (эпос, трагедию, комедию, дифирамб) и роды музыкального творчества («большую часть авлетики с кифаристикой»), не имея потребности обособить одно от другого [7]; граница между поэзией вообще и музыкой вообще, хотя бы в определенных контекстах, становится несущественной, а граница между трагедией и комедией всегда очень существенна. И еще один важный симптом — слова, которые употребляет Аристотель для передачи понятия жанра [8]: разные жанры — это разные «подражания» (μιμήσεις) [9], разные «искусства» (τέχναι) [10]. Есть «технэ» трагического поэта, есть «технэ» поэта, работающего в другом жанре, например эпическом или комическом, а есть «технэ» флейтиста или упоминаемого тут же плясуна, и все три «технэ» — разнящиеся между собой предметы, настоящие объекты классификации; а то, что первые два объекта можно в рамках этой классификации сгруппировать и противопоставить третьему как «поэзию», разумеется, интересно и важно, однако лишь во вторую очередь. Первичные сущности — не поэзия вообще и не индивидуальность поэта, чье отношение к поэзии вообще — к «поэтической стихии», как это можно назвать со времен романтизма, — лишь опосредовалось бы жанром. Нет, именно жанры — это и есть сущности. А что,
по Аристотелю, дает наиболее ясное представление о сущности? «Тела и то, что из них состоит, — живые существа и небесные светила» [11]. Запомним это на будущее: здесь такой источник не всегда осознаваемых метафор для описания бытия жанров, который не вполне иссяк и ныне, — говорим же мы о «рождении» жанров, об их «жизни», о «гибридных» жанрах и т. п. Существование жанров мыслится по аналогии с существованием тел, в частности живых тел, которые могут быть в «родственных отношениях», но не могут быть взаимно проницаемы друг для друга.
Не составляет большого труда припомнить обстоятельства литературного обихода времен Аристотеля, побуждавшие ощущать поэтические жанры как разные «искусства». Прежде всего этими «искусствами» занимались разные люди; творческая личность не могла свободно переходить от одного жанра к другому, используя их как возможности самовыражения. Когда под конец платоновского «Пира» Сократ принимается доказывать, «что один и тот же человек должен уметь сочинять и комедию и трагедию и что искусный трагический поэт является также поэтом комическим» [12], — это, собственно, философский парадокс, имеющий разве что косвенное отношение к литературным реалиям. Равным образом, если у Аристотеля и позднее Гомер предстает как универсальный поэт, соединивший в себе творца серьезного эпоса и мастера юмора (в «Маргите») [13], на то он и Гомер, отец всяческой поэзии, всяческой образованности, единственная в своем роде фигура, которая в пантеоне греческой культуры не имела себе подобной [14]. Исключение только оттеняет норму. Это много позднее на почве римской литературы явятся поэты, совмещающие практику в жанрах эпопеи, трагедии и комедии, например Невий и Энний, а еще позднее молодой Овидий напишет трагедию «Медея» как пробу сил еще в одном жанре. Во времена Аристотеля такого не было. Характерно, далее, то общеизвестное обстоятельство, что за различными жанрами (или отдельными компонентами жанров, например за диалогическими и хоровыми частями трагедии) в классической греческой литературе закреплялись не стилистически окрашенные слои единой лексической системы, как это будет в той же римской литературе или еще позднее, в литературах европейского классицизма, — но, куда радикальнее, различные диалекты. Оды Пиндара написаны не то что в ином «стилистическом ключе», но как бы на ином греческом языке, нежели проза Геродота.
Это и многое другое работало, конечно, на представление о жанрах как тождественных себе самим и непроницаемых друг для друга сущностях. Замечательно не это — замечательно, до чего живучим и устойчивым оказалось это представление. Ведь историю ранней и классической греческой литературы наша наука до самого последнего времени всегда излагала «по жанрам», рассекая для этого цельность движущегося во времени литературного процесса. Возьмем для примера наугад хотя бы трехтомную «Историю греческой литературы», изданную Ин статутом мировой литературы в 1946—1960 гг. Пиндар был современ ником Эсхила, Геродот — современником Софокла, но здесь им повстречаться не суждено: Эсхил и Пиндар разведены по разным разде лам («Лирика», «Драма»), а Софокл и Геродот — даже по разным то мам (заглавие первого тома — «Эпос, лирика, драма классического периода», второго тома — «История, философия, ораторское искусство классического периода»). Мы не обсуждаем сейчас, целесообразна ли привычная организация материала и не стоит ли от нее отказаться. Нас интересует то, что она — привычна.
Оглядываясь на путь постижения античного наследия в европейской культуре, мы видим, как различные, соперничавшие друг с другом, сменявшие друг друга направления мысли способствовали консер вации некоторой переоценки самотождественности и взаимной непроницаемости жанров в античной литературе.
В самом деле, со времен поэтик Марко Джироламо Виды (1527 г.) и Юлия Цезаря Скалигера (1561 г.) осмысление античной традиции пошло по пути классицизма, сильно преувеличившего сравнительно с подлинной античностью моменты непререкаемой стройности в размежевании жанров и нормативной жесткости в их разработке. Для классицизма характерна прямо-таки фетишизация жанра, которой в такой мере не бывало ни раньше, ни тем более позднее. Эстетика немецкого классического идеализма, прежде всего в шеллинговском варианте (курс лекций Шеллинга по философии искусства — 1802—1803 гг.), сложилась, казалось бы, в союзе с иенской романтикой, т. е. на гребне умственного движения, оспорившего классицистский нормативизм; однако установка этой эстетики на так называемое конструирование (Konstruk-
tion) форм эстетического творчества, т. е. на их якобы самоочевидное выведение из вечных начал духа, не могла не возродить на новой основе абсолютизацию жанров. «Как всякое конструирование, — пишет Шеллинг, — есть представление вещей в абсолютном, то конструирование искусства есть по преимуществу представление его форм как форм вещей, каковы они в абсолютном» [15]. В особенности противопоставление так называемых литературных родов — эпоса, лирики и драмы, бегло намеченное в свое время у Аристотеля [16], представало как противопоставление онтологических категорий или моментов диалектического процесса. Для того же Шеллинга, например, сущность лирики — это «потенция особенного, или различимости», сущность эпоса — «потенция тождества», сущность драмы — диалектическая ступень, «где единство и различимость, общее и особенное совпадают» [17]; для Гегеля эпосу соответствует объект в чистом бытии, лирике — субъект в настроении, драме — синтез объекта и субъекта в волевом действии [18] — подход, воспринятый [19], как известно, молодым Белинским [19]. Наследники немецкой идеалистической традиции в XX в. предпочитали видеть в литературных родах эквиваленты или материализацию не столько старых категорий, сколько «экзистенциалов» Хайдеггера; так, Э. Штай-гер связал эпос с представлением, или настоящим, лирику — с воспоминанием, или прошедшим, драму — с порывом, или будущим [20].