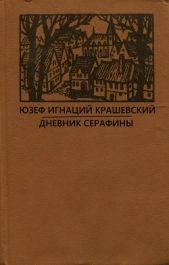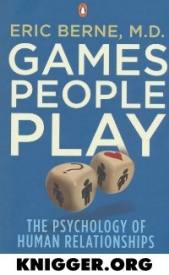Бессмертны ли злые волшебники

Бессмертны ли злые волшебники читать книгу онлайн
Это неожиданная книга. В ней документальное повествование переходит в художественные новеллы, а поэтические этюды о человеческих характерах перерастают в философские размышления о жизни. Происходит это потому, что автор открывает перед читателем лабораторию своей мысли. Его мысль упорно хочет проникнуть в тайны человеческих судеб, понять законы, управляющие человеческими отношениями и человеческими поступками, найти истоки человеческих взглядов на добро и зло. А когда мысль не стоит на месте, когда она ищет, то ей приходится вбирать в себя очень многое. Это целый поток историй, конфликтов, воспоминаний, ассоциаций… Это книга о любви и о счастье, о людях, одержимых страстью творить в мире добро, о таланте видеть жизнь удивленными глазами. Вечные проблемы — добро и зло, любовь и ненависть, бескорыстие и скупость, вдохновение и приземленность — получают у автора современное звучание. Оставаясь вечными, они приобретают новые оттенки, обогащаются духом нашей эпохи, авторским видением.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Читаете много?
— Для души: о лазерах или научную фантастику, не особенно много. Живу густо. Работать надо. Учиться надо. Мыслить надо. И… — усмехнулся, посмотрел себе на колени, — сын у меня. Да! Мне бы эйнштейновский парадокс времени, чтобы в одной моей минуте было хотя бы три земных. Чтобы час состоял из больших-больших минут, — он раскинул руки, точно обнял шар.
И заговорил о сыне. О том, что вчера посмотрел сын на солнце, зажмурился и засмеялся: набежало большое облако — опечалился; потом опять зажмурился и уже не рассмеялся — захлопал в ладоши. «Почему?»
Рассказывал он, изумленно улыбаясь, с тихим ликованием человека, которому посчастливилось нечаянно ступить на еще не открытую землю. «Я с ним беседую иногда: некоторые слова кажутся ему смешными, а некоторые печальными. Смысла он не понимает. Почему же?»
Я не ожидал, что двадцативосьмилетний мужчина, не художник и не поэт, будет рассказывать о детском смехе и о солнце, как о чуде. Но через несколько минут это «изумленное видение» сына передалось мне.
И вот тут я начал понимать — понимать, что освежает, обостряет для моего собеседника ощущение чуда жизни. Потом, беседуя со многими товарищами Смирнова, я понимал все отчетливее: нет, он не наивен с его детскими «почему». Вернее, плодотворно-наивен.
Самый «умный» автомат и самая современная вычислительная машина служат великолепнейшим по убедительности фоном для еще более глубокого осознания сложности жизни и ее тайн. Служат именно потому, что их совершенство уже удивительно высоко: его можно измерять «человеческой мерой». Видимо, тут действует та странная логика, которую мудро раскрыл Андерсен (не случайно же кибернетики так любят сказки!) в волшебной истории о соловье, — чтобы оценить пение живого соловья и заплакать от радости, надо было послушать механического. А он, искуснейший, видимо, не уступал по совершенству современным электронным машинам, имитирующим некоторые формы деятельности человека.
Живая серая птаха рядом с механическим дивом обернулась глубокой, волнующей тайной.
М. Горький советовал молодому писателю: «Не бойтесь быть наивным!» Мудрый совет — из боязни показаться наивными мы иногда не высказываем плодовитые мысли, гасим добрые искры…
Те, о ком я пишу, не боятся быть наивными. Не исключено, что это влияние кибернетики, которая в поисках истины смело ставит «детские» вопросы: почему человек говорит, а шимпанзе нет или почему из яйцеклетки кролика появляется не собака и не рыба?.. Она рассматривает с неутолимым любопытством ребенка все возможные формы поведения, все мыслимое разнообразие явлений, чтобы ответить потом: что же ограничило это разнообразие, почему оказалась единственно возможной именно эта, а не иная форма.
Я написал, что поначалу меня несколько даже разочаровала известная трезвость молодых по отношению к логике электронных чудес. Подумалось: не вестница ли она равнодушия — равнодушия, которое наступает, когда уже нечего более желать?
Но я убедился быстро — и только слепой может этого не увидеть, — они влюблены, фанатически влюблены в новую технику, в мир, рождающийся под их трезвыми руками.
И вот тут-то, в сердцевине этого сочетания — изумленная очарованность обыкновенными тайнами бытия и влюбленность в неизумляющий, строго логичный электронный мир, — и лежит, по-моему, разгадка их более сложного, чем у старых мастеров, отношения к новой технике. Резко оттеняя волшебство живого мира, она волнует их воображение возможностью постигнуть закономерности волшебства. Моделировать — раскрыть тайну. Самое волнующее для них в современных, «думающих» машинах — рождение аналогий с живой материей, с вершиной ее — человеком.
В Европе и Америке вот уже много десятилетий, с конца минувшего века, пишут о техническом обесчеловечивании людей. Беседуя с молодежью этого завода, я думал невольно об очеловечивании техники, о той духовной власти над ней, пути к которой тщетно ищут на Западе.
О Евгении Бабенко мне рассказали, что он внес умное усовершенствование в методику испытания одного из сложных узлов математических машин — усовершенствование чисто логическое, указывающее на синтетическое мышление молодого монтажника. Сам Бабенко объяснил новый метод лаконично, образно и человечно.
— Вам нужно заполнить курортную карту. Для этого вы должны побывать в пяти кабинетах — у разных врачей. Утомительно и долго. Если сосредоточить обследование в одном кабинете, вести его комплексно, с помощью совершеннейшей электронной техники, вы выиграете. Нечто похожее и в моем решении — по-новому испытывать узел: одновременно по различным параметрам.
Потом мы заговорили о безграничных возможностях математических машин; он трезво заметил:
— Мне кажется, мы стоим сейчас на пороге исключительных открытий в биологии. Именно в ней, а не в электронике. Расшифровка работы нейрона, синтез белка, разгадка самой жизни. — Он бегло улыбнулся. — Не вечно же мы будем строить наши машины из металла. Обходится человек без триодов, магнитных лент и ламп… — и, точно осуждая себя за измену: — Белок не дает мне покоя.
Некоторые мои товарищи по работе утверждают, что в беседе с корреспондентом любой человек «стремится быть умным». Я этого не думаю, но все же мне хотелось узнать, о чем говорят мои герои между собой — без журналиста.
Допытывался я и у монтажника Саши Клеймана — и в мимике его и в жестах чувствуется характер увлекающийся, чистосердечный и непосредственный.
— Ну о чем? — пожимал он плечами, улыбался. — Вот о Розе Кулешовой, помню, о ее руках.
— И что говорили?
— В общих чертах: что есть в человеке еще не раскрытые возможности. — Помолчал и улыбнулся еще смущеннее: — Ну, Коля Соболев меня в невежестве обличил… Говорит: помнишь описание рук у Стефана Цвейга в новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины»? А я не читал… Жаль, говорит, что не читал: Цвейг первый указал на возможности человеческих рук, расшифровал через них людей… Через неделю у меня день рождения — ребята дарят разное. А Коля — Цвейга. «Избранное». — И уже без улыбки: — Он, Коля, сложный, емкий. И электроникой увлекается, без дураков, и художественной литературой. Ходит на концерты классической музыки. Он как луч лазера — в смысле объема информации.
Мысли о нераскрытом в человеке волнуют молодых. Конструктор (несколько лет назад он тоже был рабочим) делился со мной:
— Бывает, что мальчик талантлив в математике или музыке, а вырастет — нет таланта. Куда же он уходит? Ведь талант не вода, человек не песок. Или, наоборот, раскрывается кто-то на старости лет, и люди ахают: откуда такое чудо? А может быть, мы когда-нибудь постигнем глубоко «механизм» таланта, научимся им управлять?
В триединой формуле Олега Смирнова — работать надо, учиться надо, мыслить надо— ни один из них не забыл о заключительном «надо».
О чем мыслить? О таланте, который иногда «уходит», как вода в песок, о руках Розы Кулешовой и нераскрытых возможностях наших рук, о том, почему ребенок аплодирует солнцу. Что же ищут они: ключ от хитроумного сейфа или от дорогого рояля? Слышен ли в их исканиях тот музыкальный аспект, о котором — помните? — говорил мне старый архитектор?
Художники подтвердят: трудно писать портреты с натуры, когда натура эта находится в непрестанном движении: ходит, жестикулирует, убегает, возвращается, то задумывается, то смеется…
Ни сосредоточиться, ни углубиться! Карандаш и сам делается на редкость подвижным: нервным и беглым. Иначе не поспеть ему за изменчивой натурой, не перенести на бумагу разнообразие этой изменчивости, мелькающие подробности мимики, жестов, походки. Редко кому удается написать в этих условиях законченный портрет. Чаще это штрихи к портрету.
Именно штрихи, более или менее торопливые.
В подобном положении очутился и я на Московском заводе счетно-аналитических машин. У меня было ощущение, что моя «натура» — люди этого завода — ни секунды не находится в состоянии покоя. Дело тут не в индивидуальных особенностях характеров, а в общем настроении, общем пафосе. Для человека ничего нет дороже новизны, а тут новизна хлынула широко и бурно: потоком. Она играет, она выходит из берегов, как река в половодье. Изменчивость жизни — и бессмертие ее — никогда не чувствуется так остро, как весной. А тут весна — все четыре времени года.