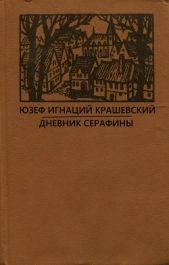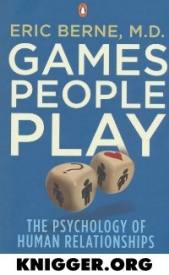Бессмертны ли злые волшебники

Бессмертны ли злые волшебники читать книгу онлайн
Это неожиданная книга. В ней документальное повествование переходит в художественные новеллы, а поэтические этюды о человеческих характерах перерастают в философские размышления о жизни. Происходит это потому, что автор открывает перед читателем лабораторию своей мысли. Его мысль упорно хочет проникнуть в тайны человеческих судеб, понять законы, управляющие человеческими отношениями и человеческими поступками, найти истоки человеческих взглядов на добро и зло. А когда мысль не стоит на месте, когда она ищет, то ей приходится вбирать в себя очень многое. Это целый поток историй, конфликтов, воспоминаний, ассоциаций… Это книга о любви и о счастье, о людях, одержимых страстью творить в мире добро, о таланте видеть жизнь удивленными глазами. Вечные проблемы — добро и зло, любовь и ненависть, бескорыстие и скупость, вдохновение и приземленность — получают у автора современное звучание. Оставаясь вечными, они приобретают новые оттенки, обогащаются духом нашей эпохи, авторским видением.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Социален и космический оптимизм Циолковского. За ним наша Революция, начало нового мира. Серенькие, бедно изданные в Калуге книжки повествовали о красоте и истине, которые царят в космосе, населенном разумными, счастливыми, совершенными существами, о том, что и на Земле — одной из самых юных обитаемых планет — жизнь и человек разовьются во что-то неописуемо чудесное, и о бессмертном атоме, видящем радостные человеческие сны.
Казалось бы, бесконечно это далеко от будней послереволюционной, не окрепшей от социальных и экономических потрясений державы. А почитайте письма, которые получал Циолковский от читателей этих книжек, — восторженные, умные письма.
Вот избранные строки этих писем. В них тоже — музыка революции.
«Вы ошиблись только в одном — эволюция к великому будущему пойдет быстрее, чем Вы полагаете».
«После Ваших книжек начинаешь еще лучше видеть цель жизни».
«Как жаль, что нет аппарата, чтобы взять его под мышки, взвиться под облака и там запеть гимн жизни всепобеждающего разума человеческого».
«Что может быть дороже жизни: все минует — любовь, молодость, красота, одна жизнь — вечна…»
«Сознание, что все возможно в мире, наполняет душу чудным настроением».
Это писали в первые послереволюционные годы мечтатели России, страны, начинавшей выплывать из мглы.
Наконец, самое, по-моему, существенное: «Хочется, чтобы твое поведение и даже мышление не нарушало окружающих тебя радостей, красоты, истины. В Вашем изложении заключен тот моральный стимул,который необходим человеку и является единственно авторитетным, потому что научен».
Вот и Иван Филиппчук ощутил во все более глубоком осознании человеком гармонии космоса великий моральный стимул. Космическая этика — рост нашей доброты и отваги. И когда после книжек Циолковского опять открываешь тетради Ивана Филиппчука, чувствуешь и в них музыку революции. Человек познает и осмысливает мир, космос, чтобы делать жизнь все разумнее и совершеннее, чтобы все более укрупнялась, становилась близкой и осязаемой высшая цель революционеров — счастье Человека.
Но иногда в его тетрадях с Эпикуром, Кантом, Циолковским, космической этикой соседствует и обыкновенное, земное. Записи нефилософские, житейские отражают некоторые подробности окружавшей Филиппчука сложной жизни научно-исследовательского института.
«…В Доме культуры на диспуте Кирилл Д. говорил, что нужны новые точки отсчета доброты. Это, конечно, хорошо вытащить из воды утопающего или дать кожу обгоревшему человеку, но до каких пор можно этим умиляться? Жизнь требует большего… „Чего, чего требует жизнь?“ — закричала с места Юлия С. Мы сидели рядом. И добавила тихо, для меня: „Пижонские разговоры“. Но Кирилл не смутился. „Если вы обгорите, Юля, не дай бог, я кожу отдам вам с великой охотой, — сказал он под общий хохот, — а жизнь требует того, чтобы я, если надо, кинулся вас спасать и тогда, когда вы не горите и не тонете“. — „Вашу кожу оставьте при себе! — закричала Юлия. — Для меня она слишком тонка“. Зал загудел. Кирилл махнул рукой.
Юлии, конечно, легче жить с ее „кожей“.
А вопрос о доброте — большой, над ним стоит подумать. Рано еще нам не восхищаться теми, кто кидается в пламя и воду. Но и мысль Кирилла о новых точках отсчета мне нравится».
«Научный руководитель еще больше стал тиранить инженера-конструктора Н. Говорит при нем же о том, что делает он: „Надо быть классическим идиотом, чтобы делать это“. Инженер Н. — идиот! Да он, как никто, разбирается в электронике, а техническая интуиция у него, можно сказать, нечеловеческая. Шурка сегодня, когда руководитель вышел, не выдержал: „Вы бы осадили его, Геннадий Павлович, крепенько, по-умному…“ Н. на это ничего не ответил и, когда мы вечером шли домой, не шутил, не фантазировал, не рассказывал о парадоксах жизни, а курил и молчал. А у самого общежития задержал Шурку и меня: „Стар я, ребята, — сказал он, — штурмовать бастилии, семья у меня, гипертония“. Мы с Шуркой на это ничего не ответили, ушли к себе в общежитие, а на лестнице Шурка нехорошо сострил: „Рожденный ползать — может летать, рожденный летать — может ползать“. Это несправедливо, конечно, инженер Н. не ползает. Он молчит. И мы с Шуркой молчим, когда при нас его унижают, хотя не имеем ни семьи, ни гипертонии».
Еще одна запись:
«Утром по дороге в институт кинули с Шуркой жребий, кому говорить научному руководителю, чтобы больше не обращался к нам на „ты“. Выпал „орел“ — говорить мне. Если бы еще руководитель был стар, куда ни шло. Или если бы говорил „ты“ без разбора. Но у него определенная черта: рабочим — „ты“, инженерам — „вы“. А многие не старше нас. „Осади его по-умному, интеллигентно“, — сказал Шура, когда выпал „орел“. Я волновался, как при опробовании машины. Хотя руководителю тридцать пять лет, но доктор наук, величина. Даже не помню, что ему наговорил. Ребята потом помогли восстановить картину. „Ты подошел к нему, как бык наклонил голову и тихо начал объяснять: в нашей деревне, Николай Георгиевич, даже родные говорят между собой на „вы“, даже сестрам „вы“ говорят, матери, а „ты“, если в сердцах, забывшись, или если такая уж близость! А он заморгал, потом понял, побледнел и вышел“. Шура уже начал поддразнивать меня: „В нашей деревне, Иван Тарасович…“»
(Я так увлекся тетрадями, что забыл сообщить самые элементарные биографические данные о моем герое. Филиппчук родился в старинном селе на левом берегу Днепра, в его широком течении близ Киева. Когда решилось: быть ему в мире, стояла последняя довоенная весна. Сельский учитель Тарас Филиппчук задумал ладить в ожидании первенца новый дом. Тарас был первым интеллигентом в крестьянском роду Филиппчуков, был он, вернее, полуинтеллигентом, полукрестьянином: и учительствовал и работал на земле; крестьянкой была жена его, мать Ивана. Когда он родился, Тараса уже убили, а деревни не было. Землянки были; в течение пяти лет.
Говорят, что иногда и в землянках вырастают дети (я чуть было не написал: «мальчики»!)с крепким сердцем, без ревматизма. Да и Филиппчук, насколько помнят в армии и в институте, никогда ни на что не жаловался. Может быть, не болело у него ощутимо сердце, может быть, он не верил, что это именно сердце болит. Не мог поверить в собственную непрочность.)
Он не успел додумать до конца показавшуюся ему такой важной мысль о новых точках отсчета доброты… Но, видимо, ощутил эти точки остро.
Циолковский ценил высоко волшебные истории.
Он утверждал:
«Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет».
«Многое необыкновенное, что случается с нами, может быть объяснено весьма научно безмерной, малопостижимой и непредвиденной сложностью космоса».
Эти строки из книжки Циолковского «Научная этика» Филиппчук тоже переписал в тетрадь, даже подчеркнул.
Почему подчеркнул? Что необыкновенного случалось с ним самим? А может быть, вся жизнь казалась ему необыкновенной?
Штрихи к портретам
I
Руки эти казались мне чудом. Они волновали меня ничуть не меньше, чем руки Рихтера или Коненкова.
В них не было ничего удивительного, если отвлечься от того, что они делают, — обыкновенные рабочие, широковатые в кости, с тяжелыми пальцами, отполированными металлом до темного блеска. В автобусе, передавая деньги, и вчера и сегодня я видел почти у самого лица руки, похожие на эти…
И вот ощущение чуда. Эти руки делают детали математической быстродействующей машины: элементы ее памяти, имитирующей черты жизни, может быть, самого «таинственного острова» мыслящей материи.
Голос моего собеседника — тихий, удивленный голос человека, осязающего что-то новое, сложное.
— Что меня особенно волнует?.. — рассказывает он. — Волнуют новые металлы: их странность. Раньше я имел дело со сталью. Металл чистосердечный. А теперь? — Он понизил голос почти до шепота. — Альфинол… Слышали? И тому подобные… Возможности у них большие, но характер сложный. Обманывают иногда… Не понимаете? Объясню. Вы литератор, ваш материал… — помолчав, подумав. — Слова! Не чернила же и бумага… Вот если бы они изменились: будто бы те же на вид, на слух, а углубишься — иные… А?