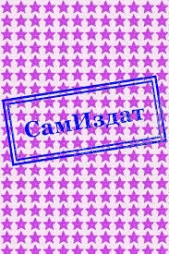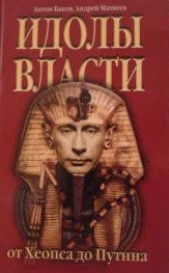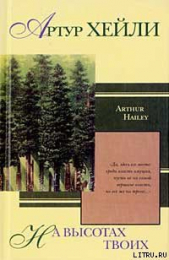Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всеобщая и идеальная мера пушкинского образа была и условием неповторимого звучания каждого отдельного голоса. Запись поэтической речи обязана быть спасительным талисманом — платой, платком, пластинкой. «Речь его (Недоброво — Г. А., В. М.), и без того чрезмерно ясная, с широко открытыми глазами, как бы записанная на серебряных пластинках, прояснялась на удивленье, когда доходило до Тютчева, особенно до альпийских стихов…» (II, 390). От одного из самых ранних стихотворений Мандельштама «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…» (1908), где «челн подвижный, игривый и острый» бороздит озеро, как игла граммофонную пластинку (I, 32), — до «Грифельной оды» проходит символика граммофонного овеществления голоса и оглашения вещества. Эпиграф «Грифельной оды»
должен быть понят в том смысле, что понять можно только зафиксированный, вещественно доказанный голос. Граммофон и дает удивительную возможность понять прямо с вечно живого голоса. «И вот под старые готические своды вдвигают вал фонографа…» — так афористически выразит суть перемен Анненский. Но граммофон, пойдя по разряду онтологических доказательств, — не техническое новшество и не просто предмет в ряду предметов. «Я долго мечтал, — признавался Гете, — и давно уже говорю о модели, на которой сумел бы показать, что происходит в моей душе и что не каждому я могу наглядно показать в природе» (IX, 14). И если Волошин еще побаивался граммофона и так до конца в него не поверил, то Мандельштам уже ничего не боялся. Граммофон и явился для него такой символической моделью. В своих мемуарах Э. Герштейн приводит любопытный эпизод: «Забежавшие ко мне Мандельштамы были свидетелями, как мой маленький племянник впервые заговорил, начав с очень трудного слова. Они часто потом припоминали, как он прыгал по моей тахте и с сияющими глазами победоносно выговаривал: „Иго-ло-чка“. Для Осипа Эмильевича это было каким-то переживанием». Теперь понятно, почему это явилось для Мандельштама каким-то особым переживанием, которое он вспомнит не раз. «Игла» — не просто первое слово в жизни ребенка, это — Первослово (Urworte, говоря по-гетевски) и символическая альфа поэтического мироздания. В «Рождении улыбки» (1936–1937):
Младенческой улыбкой, как иглой, строчится ткань познанья мира. Слово «игла» не произнесено, но видимо на устах ребенка. Присутствуя, оно отсутствует, произнесенное — остается непроизнесенным.
Свою символическую модель Михаил Кузмин предъявит в загадочном стихотворении «Панорамы с выносками» — «Добрые чувства побеждают время и пространство». Приведем его целиком:
По догадке поэта Алексея Пурина, эта вещица — пластинка. И это не просто поэтическое лукавство, а блестящий этюд по философии символа. Не имея решительно никакой возможности остановиться на этом подробно, отметим лишь, что, с нашей точки зрения, это не просто пластинка, а сама символическая структура воспроизведения голоса (музыки), совпадающая с неровной линией Пути. Посох вычерчивает по дороге те же линии, что и игла в своем певучем движении по крутящейся пластинке. «Линия — смена мгновений и жизнь во мгновении…», — пишет Белый. Греч. gramme — «линия» (grammata — «буква») как знак темпоральности исходно противостоит сущности, как началу неизменному. Однако, по словам того же Белого, сама линия требует круга: «Вызывает в нас линия мысли о круге…», потому что «символ сущего — круг». Движение по кругу символизирует единство вечного и временного, сущности и существования. В пределе сам поэт-паломник мыслится как игла, тело-игла, превращающее географию — в геоглоссию.
II
Швеи
проворная
иголка
Должна вести
стежки
святые,
Чтобы
уберечь грудь
Свободополка
От полчищ
сыпного
Батыя.
Свою итоговую, 1922 года, сборную «сверхповесть» «Зангези» Велимир Хлебников начинает с самого принципа построения текста. Повесть строится из отдельных единиц-рассказов, уподобленных глыбам камней. Герой, поэт и пророк по имени Зангези, alter ego автора, исполняет свои песни со специальной площадки, расположенной на вершине утеса: «Горы. Над поляной подымается шероховатый прямой утес, похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом. Как посох рядом со стеной, он стоит рядом с отвесными кручами заросших хвойным лесом каменных пород. С основной породой его соединяет мост — площадка упавшего ему на голову соломенной шляпой горного обвала. Эта площадка — любимое место Зангези. Здесь он бывает каждое утро и читает песни. Отсюда он читает свои проповеди к людям или лесу» (III, 317–318).
Под увеличительным стеклом будетлянтского будущего Адмиралтейская игла видится игложелезным утесом. С кафедрой нового проповедника на вершине. Герой — нечто среднее между Франциском Ассизским и Заратустрой. И это среднее — русская заумь, эсхатологически просветленная законами числа и верного слога. Увеличительное стекло-чечевица отзовется позднее мандельштамовским: