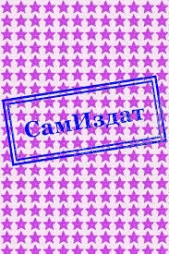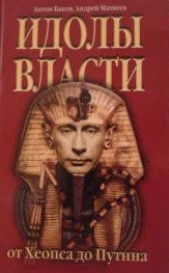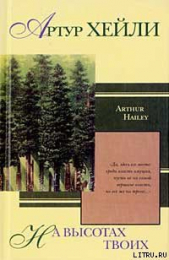Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поэзия — панночка, и вероломная любовь поэта сродни всепожирающей страсти младшего сына Тараса Бульбы. Но если поэтам закон не писан, и отечество они носят на подошве своего башмака, как говорил Гейне, поэт — неминуемо младший Бульба, поправший все мыслимые законы чести, кровного родства и веры предков. У поэта один закон — немыслимый закон самой Поэзии. «…Поэзия, — говорил Анненский, — эта живучая тварь, которая не разбирает ни стойла, ни пойла, ни старых, ни малых, ни крестин, ни похорон». С внешней точки зрения поэзия — всегда вероотступничество, а поэт — «дитя предательства и каверз» (Пастернак). Но не кара со стороны ничего не прощающей отцовской власти пугает Мандельштама, не смерть, а что-то другое. Безысходность? Подчиняясь ли власти или не подчиняясь ей, поэзия в обоих случаях убивает себя. И не только себя — власть, всё! Отсюда горький лозунг: «И лучше бросить тысячу поэзий, / Чем захлебнуться в родовом железе…» (I, 308). Это не значит бросить поэзию вообще. Надо бросить старую, прежнюю поэзию. Нужна другая. Новое время — новая поэзия.
Сама высшая мера похвалы, как выстрел, — в лоб, в упор:
<…>
Это о расстрелянном Гумилеве. Но и сама дружба Гумилева — выстрел, пробуждающий Мандельштама к истинной поэзии. В сталинской оде этот контекст двусмыслен вдвойне: вы-стрелоподобная похвала вождю смотрит на самого поэта дружным залпом мудрых глаз. Но вернемся к Гоголю. Вот смерть Андрия, переломившая весь ход событий:
«„Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью!“ сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его, и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова» (II, 144).
У Мандельштама все события переведены на язык визуальной образности. Художник-сын рисует портрет Отца. Внутри одического слова создается немотствующее пространство решительного объяснения. Сцена символической казни располагается в горизонте взаимного видения, единого со-бытия. Voir c’ est avoir, согласно поэтической формуле Беранже («видеть значит обладать»).
Ось каламбура ЖЕЛЕЗО/ЖЕЛЕЗА обнаруживает родство сталинской власти и миндалевидной, с детской припухлой железкой, речью поэта. Миндалевидная железа — постоянный самообраз Мандельштама. Он остро ощущает, что «щитовидная железа» поэзии больна теми же болезнями, что и «родовое железо» власти, захлебывающееся в крови и отчаяньи. Поэт одноимен властителю — Иосиф! Поэтический орган внутренней секреции таит в себе не только болезнь, но и излечение. Поэзия — болезнь, пусть и высокая, но она же и лекарство. Она разом — и боль, и врач. На языке сталинской оды: «Художник, помоги тому, кто весь с тобой…». Из стихотворения «Железо» (1935):
Первоначальный антагонизм железной правды и живой, но неправой плоти снимается образом железно-живого цветка. Удел истинной поэзии — быть железой в стальном теле власти. При таком выборе своего поэтического бытия в мире:
Вот почему предельное отчуждение от нового мира («не чуя страны») даже под угрозой гибели в «Оде» равно осевой близости этому миру выполненной клятвы: «И задыхаешься, почуяв мира близость».
Уподобляя Гоголю, Жирмунский как-то назвал Мандельштама математическим фантастом. И верно.
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА
I
Вернуться на родной фрегат!
О мандельштамовском стихотворении «Адмиралтейство» все прилежно воспроизводят ранний, 1922 года, вывод Н. П. Анциферова: «Вполне чистый образ города, свободный от всяких идей, настроений, фантазий передает один О. Мандельштам. В его чеканных строфах, посвященных Адмиралтейству, мы находим отклик на увлечение архитектурой <…> Спокойно торжество человеческого гения. Империалистический облик Петербурга выступает вновь, введенный без пафоса, но со спокойным приятием». М. Л. Гаспаров уточняет: «Здесь преодоление времени переходит в преодоление пространства: раскрываются три измерения, открывается пятая стихия, не космическая, а рукотворная: красота». Однако и «Петербургские строфы» и «Адмиралтейство» — стихи о попрании всяких человеческих правил, установлений природы и государственных законов. Пятая стихия — вовсе не красота, и чистой образностью здесь и не пахнет.
«Адмиралтейство» было впервые опубликовано в журнале «Аполлон» (1914, № 10). Сохранилось два беловых автографа (архивы Мандельштама и Лозинского). При публикации была отброшена пятая строфа и внесены некоторые изменения. Приведем текст белового автографа:
Последняя строфа была забракована постановлением общего собрания — на заседании «Цеха поэтов», предположительно из-за слишком явных символистских обертонов (брюсовский перевод «Лебедя» Малларме и «Венеция» Александра Блока). Мандельштам послушно остался без строфы. «Цех поэтов» состоял отнюдь не из профанов, и они должны были слышать, о каком лебеде идет речь (последним из Царскосельских лебедей называл Гумилев — Анненского). Но кто знает? Во всяком случае, если «лебедь» и был изъят, то цитата из брюсовского перевода осталась: «Пространство властное ты отрицаешь…». Но цитата инверсирована риторическим вопросом: «Не отрицает ли пространства превосходство..?». Сам Анненский описал Царское Село как идеальный ландшафт пушкинской мысли. Лебедь стал идеальной сигнатурой этого ландшафта.