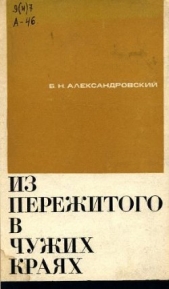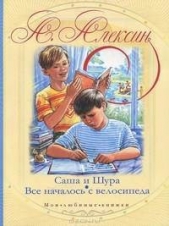Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии

Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии читать книгу онлайн
В итоговой книге Анатолия Андреевича Бухарина (1936–2010) – литератора, историка, исследователя традиций отечественного либерализма, пушкиниста, яркого человека непростой судьбы – представлены разножанровые произведения (эссе, очерки, рассказы, воспоминания и т.?д.), написанные в последние полтора десятилетия и объединенные неповторимой авторской интонацией. Это своего рода «страстные размышления», «взволнованные думы», отражающие итоги постижения нашим современником сложных перипетий отечественной истории и культуры.
Уникальное единство художественного и исторического контекстов, естественное для Бухарина-мыслителя, делает книгу заметным явлением современной русской прозы и историографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вспомним труды Пушкина, созданные на основе архивных материалов в период путешествий поэта по России, его редкий талант слушателя рассказов бывалых людей, преображенных силой поэтического воображения в блестящую прозу. Читая эту прозу, даже завзятый скептик Каченовский вынужден был признать: «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком – это Александр Сергеевич Пушкин, давший превосходный образец исторического изложения в своей «Истории Пугачевского бунта» [2].
Диалог с документом – дело трудное и требует не только высочайшего напряжения интеллекта, но и умения толковать смыслы эпох. Последнее, пожалуй, – самое важное в работе с архивными материалами! К такой «культуре» историка, как вульгарно-социологическая модернизация смыслов, это не имеет никакого отношения. Навязывать современную модель мышления минувшим векам – самый утонченный метод фальсификации. Однако чувство истории у нас развивается в современном мире, а не в петровскую и не в допетровскую эпоху, поэтому исследователю исторических коллизий, желающему «физически» постичь тайны прошлого, ничего не остается, как глубже проникнуть в тайну современника, в его традиции, верования, страсти, заблуждения. Отсюда, как ни важно историческое образование, все-таки первый университет историка – жизнь.
Меняются векторы человеческой деятельности, мода, но остаются прежними вечные спутники-пороки: зависть, ненависть, тщеславие, равнодушие, предательство – и несть им числа. И когда гнусно кривляется лихоимство на перекрестках Москвы или моей дорогой Челябы – это не гримасы уходящего столетия, а знак бессмертного зла. Наперекор судьбе, обстоятельствам цветет любовь – это тоже символ неизбывной вечности. Бытие меняет одежды, но остается неизменным.
Думаю, не случайно, а скорее, закономерно историк созревает поздно, поскольку значительная часть отпущенного ему времени уходит на постижение бытия. Карамзин создает «Историю государства Российского» во второй половине жизни, Ключевский свой блестящий курс «Русской истории» – в полдень. Манфред расцвел всеми цветами радуги историка-поэта в монографии-романе «Наполеон» на закате дней своих. Мужественную, умную «Апологию истории» Марк Блок пишет перед смертью в фашистских застенках.
В трудах мастеров, созданных в час, когда вылетает сова Минервы, вы не обнаружите ни заданности, ни погони за славой. Книги писались для себя. Это самые честные книги. Не поймут современники? Поймут. Если не сейчас, потом поймут. Подлинный мастер-историк, умудренный опытом своего и чужого исторического бытия, не впадает ни в какие формы утопизма и является на редкость трезвым в оценках настоящего и будущего.
В пору работы над диссертацией о Боткине такое понимание назначения историка лишь смутно пробуждалось во мне, но страсть к постижению исторической истины была всесильна, заставляя переосмысливать десятки и сотни пожелтевших архивных страниц за день, забывая об отдыхе и еде.
В полемике 1847 года об исторической роли буржуазии отнюдь не в запальчивости Боткин с убеждением заявит Анненкову: «Дай Бог, чтоб у нас была буржуазия!» [3], а возражая Герцену, заметит: «Я очень хорошо понимаю нападения социалистов на буржуазию, – но вне социализма, как ни нападайте на нее, никак не выйдешь из заколдованного круга» [4]. Боткину, впрочем, это не мешало подсмеиваться над родными «аршинниками» во всем блеске их пороков и восхищаться пьесами Островского.
Не изменил он отношения к буржуа и в пору, когда на авансцене отечественного торгово-промышленного мира появилось новое-фрачное-поколение предпринимателей, кинувшихся в обе лопатки догонять Европу. Не без пророчества заметил: «Дело не в том, чтобы оканчиваться только европейскою цивилизацией, а внутренне окраситься ею, и в этой-то внутренней окраске и состоит задача нашей русской жизни, да еще и многих будущих поколений» [5].
Многое было заложено природой в удивительном русском самородке. Тонкий художественный вкус, европейская образованность выделяли Боткина в русском обществе. Кроме пансионата Кряжева он от отца ничего не получил, но был способен на самые широкие движения души: поддержать бедствующего Белинского, помочь получить вольную крепостному художнику Горбунову, приветить Алексея Кольцова. Отличался и иными, прямо противоположными свойствами: оставил в беде некогда любимую женщину, млел перед успехом и силой. Будучи унижен спесивым барским отказом во время сватовства к Александре Бакуниной, с ужасом бежал от «демократической» жены – француженки Армане с Кузнецова моста. Связал судьбу с русской литературой, немало потрудился на ее ниве, числился в друзьях «сердечных» Ивана Тургенева – и в завещании ни копейки не выделил литературному фонду!
Рыцарей нетерпения – революционеров всех оттенков – Боткин терпеть не мог, но когда Бакунин – это живое воплощение страсти к разрушению – бежал в Англию, тут же откликнулся и получил искреннюю благодарность.
«Старый товарищ Василий Петрович, здравствуй, – писал Бакунин Боткину из Лондона 19 декабря 1861 года. – Вот я, брат, и на свободе, и ничего, еще живу себе и чувствую охоту к делу. Спасибо тебе, Боткин! Л ишь тол ько ты услышал о моем возвращении, ты прислал мне денег. Меня это явно глубоко тронуло, тем более тронуло, что мы не всегда ладили между собой – ну, я явно иногда молол вздор, горяч был. В общем – когда и где мы с тобой увидимся? Может быть, я приеду скоро в Париж, если пустят, и тогда наговоримся с тобой. Любишь ли по-прежнему музыку?» [6]
Да, музыку (и вообще все искусство) он любил, и с годами страсть не угасла.
О том, каков был на излете жизни этот вечный русский странник, рассказал его секретарь Василий Крылов: «Прежние друзья и единомышленники, обломки знаменитого кружка Грановского, Боткин и Герцен встретились в последний раз в Париже в 1867 году [7]. По годам они далеко еще не дожили до 60 лет, но оба чувствовали, что прожитая жизнь лежала тяжелым гнетом на плечах, утомила, и впереди только разве предстояло подвести итоги ее, а не мечтать о каком-то шествии вперед. Томительное впечатление производила на присутствующих эта последняя встреча: два товарища, два соратника, выступившие в числе других приятелей сильной, дружной, хотя и небольшой кучкой на борьбу с невежеством, на благо и прогресс любимой ими Родины, два товарища, которые некогда исписывали целыми тетрадями письма, чтобы только поделиться впечатлениями окружающей жизни, теперь не находили ни слов, ни мыслей для беседы лицом к лицу. Так русская жизнь этого времени легла пропастью между ними. Разговор шел самый ординарный и о самых ординарных вещах, чуть что не о погоде; холодно подали друг другу руки и разошлись, будто и век никогда не было между ними никакой близости» [8].
Русский человек – мастер обмениваться любезностями. Еще в декабре 1862 года Боткин в письме к брату Михаилу заметил, касаясь судьбы лондонского изгнанника: «Кстати, скажу тебе, что значение Герцена очень изменилось в России, да не только в России, но и за границей. Несчастное соединение его с Огаревым и подчинение огаревской теории совершенно изгадило все дело. Хотение перестроить государство по каким-то отвлеченным теориям, которые не выдерживают ни малейшей критики, заставило охладеть к нему всех благомыслящих людей и лишило «Колокол» его прежнего характера, который имел прежде такое большое значение» [9].
Герцен не остается в долгу, поминая при случае бывшего товарища «добрым словом». Не скрывая раздражения против антипольских настроений московских и петербургских либералов, он, не подбирая выражений, расправляется с бывшими друзьями в письме к Огареву 10 марта 1864 года: «Мы испытываем отлив людей с 1863 – так, как испытывали его прилив от 1856 по 1862. Какой-нибудь одряхлевший мастурбатор искусства, науки, политики, который смотрит на мир, как старик на похабные картинки, словом, какой-нибудь Боткин, ругавший при Николае русскую типографию и сделавшийся моим почитателем во время успеха, ругает нас снова из патриотизма, – только смешон. Особенно когда вспоминаешь, как он со слезами на глазах восторгался, когда принимал в Париже Польскую депутацию» [10]. (К слову, досталось в этом письме и Тургеневу, окрещенному «седой Магдалиной» за пожертвования на раны русских воинов во время Польской компании.)