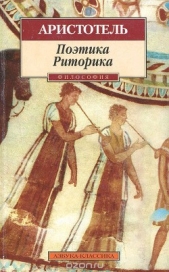Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слово стоит не в прямом, а в обратном отношении к своей цели. Оно действует «от противного». Вернемся к словесным фигурам Нонна и рассмотрим такой случай:
…Был в пустыне пчелинопастбищной явлен Некий гороскиталец, безлюдной скалы горожанин, Вестник начальный крещенья; а имя ему нарицали — Дивный народохранитель, святой Иоанн…
Антономазии следуют одна за другой: «гороскиталец», «горожанин безлюдной скалы», «начальный вестник крещенья». Только после загадывания имени следует само имя, как разгадка. Но особенно поразительна одна антономазия: «горожанин безлюдной скалы» (именно «горожанин)), ocaxoi;, не «гражданин», поУлхху^, чем намеренный абсурд резко подчеркнут). В такой системе поэтики анахорета Иоанна Крестителя можно и должно назвать «горожанином» не вопреки тому, а именно потому, что его жизнь на «безлюдной скале» предельно не похожа на жизнь «горожанина» в людном городе. Это не ассоциирование по смежности — это ассоциирование по противоположности.
Конечно, перед нами самая последняя, сверхцивилизованная стадия тысячелетних путей античной риторики, ее приход к своему концу, к своему пределу — доведение себя самой до абсурда. Но одновременно это ее возврат к своему истоку и началу, к своей первоначальной наивности и невинности, к самому первобытному и первозданному, что только может быть, — к поэтике загадки. Стоит еще раз подчеркнуть (как это в свое время подчеркивали Ф. Ф. Зелинский 3 и О. М. Фрейденберг34), что античная риторика при всей своей «искусственности» была тысячей нитей связана с фольклорными традициями, стимулировавшими как раз «условность» приема и «украшенность» слова (идеал «безыскусственности» — очень поздний идеал, соответствующий насквозь «интеллигентскому» вкусу античных поклонников Лисия или новоевропейских поклонников Руссо, но неведомый фольклорной архаике). На переломе от античности к средневековью социально-культурная ситуация требовала возрождения основательно забытых «архетипов» патриархальной древности 35.
Когда мы называем понятие загадки, мы сразу ставим себя в необходимость охватывать взглядом два различных плана: мировоззренческий и формально-жанровый. Ведь в
мировоззренческом плане а'пауца («загадка», «энигма») — одно из самых ходовых и ключевых понятий средневековой теории символа. Предполагалось, что существенное преимущество церкви как держательницы «истинной веры» и состоит в том, что она в отличие от «неверных» знает разгадку: разгадку загадки мироздания, неведомую язычникам, и разгадку загадки Писания, неведомую иудеям. Вверенные ей «ключи царства небесного» — это одновременно «ключ» к космическому шифру и к скриптуральному шифру, к двум видам «текста»: к универсуму, читаемому как энигматическая книга36, и к «Книге» (Библии), понимаемой как целый универсум — universum symbolicum37.
В этом смысле можно сказать, варьируя уже сказанное в поисках новых смысловых моментов, что для христианства «как такового» политическая реальность римско-ро-мейской империи была только энигмой, ключ к которой — эсхатологическая перспектива «царства Божьего»; но в свою очередь для имперской идеологии «как таковой» христианское учение о «царстве Божьем» было только энигмой, ключ к которой — порядок «вселенской» сакральной державы на земле.
Но наряду с мировоззренческим планом существует и сохраняет свою автономию формально-жанровый план, в границах которого все выглядит совершенно иначе: энигма — уже не принцип христианско-платонического символизма, но «попросту» загадка, та самая загадка, которая была для Платона принадлежностью мира детей, т. е. нечто до крайности архаическое, народное и общеизвестное, воплощение примитивной стадии словесного искусства. Вспомним, что стихия загадки определяет собой поэзию варварского мира, подступавшего к Средиземноморью с востока и севера.
С замысловатого нагнетания эпитетов, в которых загадан принципиально не названный предмет, начинается параллельно с ранневизантийской эпохой доисламская арабская поэзия. Вот пример из стихотворения поэта VI в. аш-Шанфары: «…когда на пути перепуганной мчащейся наугад встает бездорожная грозная…»— имеются в виду последовательно «верблюдица» и «пустыня» 38.
С «кеннингов», т. е. хитроумных и многосложных переименований предмета, начнется много веков спустя германо-скандинавская поэзия. Вот классический пример многочленного «кеннинга»: «тот, кто притупляет голод чайки звона блеска зверя Хейти» — имеется в виду воин («зверь Хейти» — корабль, «блеск корабля» — щит, «звон щита» — битва, «чайка битвы» — ворон, «тот, кто притупляет голод ворона» — воин)39.
Приведенное выше обозначение Иоанна Крестителя у Нонна можно с некоторой долей метафоричности назвать «кеннингом» в грекоязычной поэзии. Метафоричность обусловлена лишь тем, что система перифрастических формул не становится у Нонна достаточно стабильной. Все же у него встречаются постоянные, повторяющиеся формулы: например, чуть ли не на каждой странице читатель видит обозначения глаз как «кругов лика» или «кругов зрения» (к<жХ. а яроаюяог», кгжХ, а бжоят^). Историки литературы не раз жаловались на «варварский» характер вдохновения Нонна, увы, так далеко ушедшего от эллинской «меры» и «ясности», как, впрочем, и следует ожидать от первого «византийца» и постольку экс-эллина40; но в свете всего сказанного эпитет «варварский» неожиданно приобретает позитивное наполнение и превращается из неопределенной укоризны в некое подобие конкретной характеристики. Нонн творил «варварскую» поэзию, потому что он был чутким современником великой эпохи варваров. Но важно увидеть, как сходились крайности: между позднеантичной изощренностью и архаикой варварской магии слова, между «высоколобым» философским символизмом и народной приверженностью к хитроумно-нехитрой игре в загадки оказывалось куда больше точек соприкосновения, чем это может представиться поверхностному взгляду. Если бы это было не так, великий идейный и культурный синтез средневековья — духовный коррелят «феодального синтеза» — оказался бы немыслимым. Ибо суть синтеза и состоит во вторичном приведении «к общему знаменателю» ценнос-
С. С. Аверинцев. Поэтика раннсвиззнтийской литературы
тей, традиций и тенденций, генетически имеющих между собой очень мало общего, — примерно так, как в архитектурном целом константинопольского храма св. Софии эстетически соотнеслись друг с другом и со всем своим новым окружением восемь мраморных колонн, извлеченных из руин Эфеса, и восемь порфировых колонн, извлеченных из руин Баальбека.
Поэтому, кстати говоря, путь от античности к средневековью лишь метафорически можно описывать как «победу» одних тенденций, уже наличных в готовом виде на панораме поздней античности, над другими. Не стоит слишком однозначно связывать качество «нового» с определенным кругом компонентов позднеантичной культуры в противоположность другим компонентам — например, с «низовыми» и «ближневосточными» течениями в противоположность «верхушечным» и «классицистическим» (хотя по ходу работы такое упрощение может быть оправдано своей неизбежностью, оставаясь в конечном счете условным). Ибо даже византийский классицизм есть именно византийский классицизм, средневековый классицизм, т. е. не простое «присутствие» пережившего себя античного прошлого внутри неантичной эпохи, но интегрирующая часть именно этой эпохи; и, напротив, даже «восторжествовавшие» низовые и ориентализирующие тенденции не могут воспользоваться своим «торжеством», не перестроив своей сущности. Априорно это ясно всем; но именно трюизм труднее всего схватить во всей полноте его конкретных импликаций.
Ко всему сказанному требуется одна оговорка. Гетерогенность приводимых «к одному знаменателю» традиций касается только их исторической генеалогии; в далях своей предыстории они могут восходить к одним и тем же «архетипам», что, надо полагать, подспудно облегчает их синтез. Например, имперская идеология и христианская идеология по своему содержанию и по своему непосредственному генезису весьма различны, но в отдаленной перспективе связаны с одним и тем же кругом исходных прототеократиче-ских представлений о сверхчеловеческом посреднике между различными уровнями мирового бытия41. Выше упоминалось воздействие римской «триумфальной тематики» на церковную символику; но дело в том, что само слово «триумф» («triumphus») представляет собой латинский вариант греческого термина бргацрЧх;42 и постольку выдает диони-сийский генезис триумфа как такового (причастность одержимого вакханта божественности Диониса — причастность триумфатора божественности Юпитера). Значит, слово «триумф» и обычай триумфа в своем истоке в начале имеют предпосылки к тому, чтобы под конец послужить точкой встречи языческого «человекобожия» и христианского «богочеловечества».