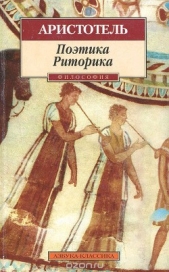Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Любой языческий бог помогал своим любимцам и почитателям, когда те вели войну; что ему было несвойственно делать, так это вести собственную войну, вербуя ради своего дела людей, «избирая» и «призывая» их под свое «знамя». Конечно, гомеровская Афина стоит за дело ахейцев; но разве гомеровскому Агамемнону или Ахиллу пришло бы в голову вообразить, будто они стоят за дело Афины? Но уже в древнейшем памятнике библейской традиции, которым располагает наука, — в «Песни Деворы» (XII в. до н. э.)91 — речь с полной серьезностью идет о войне за дело Бога. Девора — не просто поклонница своего Бога, но одновременно его воительница и дружинница; она проклинает жителей Мероза за то, что они «не пришли на помощь Господу» 92. За этой архаической песнью уже стоит идея «завета», или «союза», между Богом и его «верными». В контексте этой идеи каждый сакральный знак есть именно «знак завета» 93 — обещание и удостоверение взаимной воинской верности полководца-Бога и дружинника-человека. Отсюда ведет исторический путь к новозаветной символике воинствования «не против крови и плоти, но против Начал, против Властей, против Космократоров тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 94, к обозначению поста как «воинской стражи» 95, вообще к уподоблению аскезы воинской дисциплине96. Евангельская «священная история» трактует не просто о «благочестии», но о верности (предлагаемой верности Бога и требуемой верности человека); именно постольку она есть в очень важном своем аспекте рассказ о неверности. В ней строго необходима фигура Иуды: возможность падения в бездну предательства и вероломства, подобного воинской измене (а не просто «нечестия»), — одна из универсалий всего бытия «христианского воина».
…Мы же, братие, внимая сказание И предателя постигнув падение, Укрепим стопы наши крепостью;
Твердой стопе недвижный,
Верный, благой, неложный
Веры устой обрящем…97
Еще шире тема неверности, апостазии, узурпации дана в прологе к четвертому Евангелию: «Пришел к своим, и свои Его не Приняли…» 98.
«Пререкаемый», оспариваемый сакральный знак мыслится воздвигнутым в гуще боя, на глазах у друзей и врагов, для воодушевления первых и для «ожесточения» вторых. Характерна пластическая выразительность такого символа, как Распятие: тело до конца «явлено», развернуто как знамя и как книга". Сходный облик имеет так называемая Оранта — фигура с распростертыми и поднятыми до уровня головы руками. Ее жест есть жест молитвы; но сказать так — значит сказать еще не все. Чтобы понять подлинный смысл жеста Оранты, полезно вспомнить известное место Библии, где описывается именно такой жест. Во время тяжелой битвы Божьей рати с амалекитянами Моисей поднял руки в молитве за свой народ — и до тех пор, пока он упорным усилием удерживал руки в воздетом положении, побеждали воины Бога, а когда руки Моисея невольно опускались, побеждали враги 101. В свете этого эпизода, популярного и в средние века и неизменно воспринимавшегося как прообраз позы Оранты, становится понятным, какого рода молитва выражена этой позой. Такая молитва — опять-таки «воинствование», «духовная брань», напряжение теургической силы, от которого должны «расточиться» видимые и невидимые, телесные и бесплотные враги. Стоит сравнить эти образы с иконографией покоящегося или невозмутимо восседающего Будды, чтобы ощутить контраст.
Специфика христианской символики как символики личной верности была вполне отчетливой уже в раннем христианстве. Она стала еще более отчетливой в эпоху патристики, и мы не можем анализировать явления ранневи-зантийской культуры, не имея ее в виду. Но не в ранневи-зантийской культуре эта специфика достигла предельной резкости, четкости и наглядности; ее час наступил в эпоху западноевропейского феодализма. Понятно, что свойство христианской символики быть символикой личного служения облегчило ее функционирование в качестве ядра идеологического «феодального синтеза», как об этом уже говорилось во Вступлении. Мы видели, что раннее и даже пат-ристическое христианство было далеко от того, чтобы быть феодальной идеологией; но религией личной верности и «дружинной», «воинской» службы Богу оно было искони. Эта сторона христианской символики была очень живо воспринята варварскими народами в эпоху становления феодализма. Древнесаксонский эпос «Гелианд» (ок. 830 г.) прочувствованно описывает Христа как раздающего дары конунга (the rikeo Krist), апостолов — как верных дружинников (treuhafta man), Иуду— как воина-изменника (the treulogo), ключевые слова — «верный» («treuhaft») и «вероломный» («treulogo», «treulos»).
…И сходились Двенадцать,
верные витязи,
в круг, крепкие,
где Властный воссел —
тот ратей Сбиратель,
что людскому роду
в брани с адом
помощь подаст… 1М
Неоднократно отмечалась высокая «семиотичность» феодальной этики как этики верности 1<м. Христианская религия как религия верности тоже повышенно «семиотич-на» — или, если угодно, геральдична. В ее круге и слово приобретает условность, неподвижность, симметрию геральдической фигуры. «Радуйся, цвете нетления!» 5 Такой словесный образ не передает и не внушает никакого наглядного впечатления от предмета — он, как церемониальный жест или инсигния, воздает причитающуюся «честь» и подает должный «знак». Слово — реализация «чести»; такова одна из наиболее фундаментальных концепций средневековой поэтики.
Мир как загадка и разгадка
Популярная «История Аполлония, царя Тирского», имевшая широкое хождение в низах греко-римского мира на переломе от античности к средневековью, заставляет своего неутешно скорбящего героя и его неузнанную дочь Тарсию заниматься игрой в загадки. С нашей точки зрения, это выглядит довольно странно: казалось бы, серьезность минуты мало подходит для такого ребяческого занятия. Но дело в том, что оба персонажа вовсе не относятся к своему занятию как к ребяческому; напротив, они видят в нем очень важное, поистине царственное занятие.
«И Тарсия сказала:
"Храмина есть на земле, что исполнена звуков прекрасных: Храмина вечно звучит, но безмолвствует вечно хозяин. Оба в движеньи бессменном, хозяин и храмина эта.
Если, как ты уверяешь, ты царь своей родины, разреши мою загадку (ибо царю подобает быть мудрее всех)". — Поразмыслив, Аполлоний сказал: — Знай, что я не солгал: храмина на земле, исполненная звуков, — это море, безмолвный хозяин этой храмины — рыба, которая движется с морем вместе. — Тарсия восхищается этим объяснением, понимает, что перед нею настоящий царь, и задает ему еще более трудную загадку…» '.
Почему, собственно, Тарсия решила, что перед ней не кто-нибудь, а «настоящий царь»? Это благоговейное, почти умиленное отношение к хитроумию загадки озадачивает нас; а между тем оно характерно не только для позднеан-тичного, но и для средневекового народного вкуса. Мы не понимаем Тарсию — но люди Древней Руси ее бы поняли. В числе других примеров можно вспомнить хотя бы «Повесть о Петре и Февронии» (XV–XVI вв.). Праведная дева Феврония, увидев слугу своего будущего мужа— князя Петра, начинает говорить загадками, после чего слуга восклицает: «О дево! вижу бо тя мудру сущу…». Но и господин относится к загадке не иначе, нежели слуга: «Благоверный же князь Петр, слышав таковыя глаголы, удивися разуму девичю…». По ходу рассказа выясняется, что и слуга, и князь правы: причастность мудрости загадок изобличает в Февронии прозорливицу и целительницу2.
Автор позднеантичной «Истории Аполлония» и автор древнерусской «Повести о Петре и Февронии» дают роль загадывательницы загадок деве и тем самым ставят дело загадывания и разгадывания загадок в очень высокий символический контекст, ибо как-то соотносят его с образом девственной Софии-Премудрости — ни больше, ни меньше3.
По-видимому, такое настроение чуждо классической античности. Чуждо, но не совсем: классическая античность слишком близко стояла к традиции мифа и фольклора, а миф и фольклор ставят загадку высоко. В конце концов, каждое изречение Дельфийского оракула или Сивиллы — загадка; и когда Фемистокл в критический для своей родины момент предложил свое толкование загадочного совета Аполлона Дельфийского насчет «деревянной стены», это было куда как серьезно 4. Но темная поэтика оракулов как явление жизни и тем более как явление культуры вовсе не характерна для греческой классики; она характерна для греческой архаики. «Оракульская» загадочность и впрямь была образцом для поэзии Эсхила и Пиндара; ее значение для поэзии Софокла или Еврипида гораздо меньше. Она, эта загадочность, стимулировала игру мысли Гераклита — но что она могла дать мысли Аристотеля? Ведь даже для Платона загадка сама по себе есть просто то tcov ncci8<ov oavtynoc, «загадка из обихода детей» 5 — нечто «детское» и уже постольку «ребяческое». Загадка разделила судьбу многих других компонентов архаической культуры ритуала: из рук «мудрецов» она перешла в руки детей. Когда-то загадывал загадку Сфинкс и разгадывал ее Эдип; теперь ее загадывают друг другу малые дети. Вот что стоит за беглым упоминанием загадки у Платона.