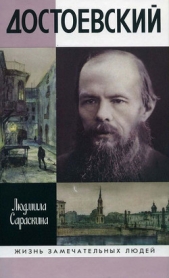Классики и психиатры
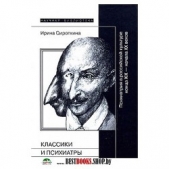
Классики и психиатры читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как мудрый политик у Толстого, мудрый врач ясно видит «неотвратимый ход событий», умеет ему подчиниться и вмешивается лишь изредка, хорошо продумывая свое вмешательство. Лучшее, что он может сделать, — это осознать границы возможностей современной науки и медицины, положиться на «простейшую работу жизни» и попытаться развить ее в правильном направлении. Осипов вспомнил восточную притчу, в которой раб мастерит лампу, не обладая никаким теоретическим знанием о том, что такое свет. Врач также не обладает полным знанием об организме и тем не менее способен помочь больному44. Больше, чем на научные знания, врачу приходится рассчитывать на свой опыт и кругозор. «Лечит не медицина, а врач», — повторял Осипов латинское изречение — и делает он это с помощью понимания человеческой психологии и природы болезни, в конечном счете с помощью своей личности. В прочитанной в конце жизни лекции о неврастении Осипов замечал со смирением толстовского врача: «Сколько неврастеников мне удалось вылечить? Отвечу: ни одного. Medicus curat, natura sanat…»45
Нервные клиники и санатории: пространство психотерапии
Душевная болезнь живо интересовала Толстого. Он придумывал для своих детей истории о сумасшедших, — например, сказку о человеке, воображавшем, что он сделан из стекла. В Ясной Поляне, как вспоминает дочь Толстого, давали приют «стран-неньким»: карлику, спившемуся монаху, нищенке, которая ходила в мужской одежде и думала, что у нее внутри растет береза. Сад московской усадьбы Толстых в Хамовниках граничил с территорией психиатрической клиники Московского университета. Больные через ограду протягивали гуляющим в саду детям Толстого цветы, и, когда никто не видел, дети разговаривали с ними. Толстой был знаком с заведующим клиникой С.С. Корсаковым и иногда беседовал с ним о психиатрии. «Однажды вечером, — рассказывает дочь Толстого Татьяна, — Корсаков пригласил нас на представление, где актерами и зрителями были сами больные. Спектакль прошел с успехом. Во время антракта несколько человек подошли к моему отцу и заговорили с ним. Вдруг мы увидели бегущего к нам больного с черной бородой и сияющими за стеклами очков глазами. Это был один из наших друзей. — Ах, Лев Николаевич! — воскликнул он весело. — Как я рад вас видеть! Итак, вы тоже здесь! С каких пор вы с нами? — Узнав, что отец здесь не постоянный обитатель, а только гость, он был разочарован»46.
Несмотря на довольно близкое знакомство с психиатрией и даже начитанность в психиатрической литературе, отношение к ней Толстого было таким же критическим, как и к медицине вообще. В его рассказах о сумасшедших «основой их болезни служит неразумная мысль». «У душевнобольных иначе и не бывает, — комментирует сын Толстого. — Но большинство человечества тоже неразумно мыслит; поэтому отец считал большинство людей, которых принято считать здоровыми — душевнобольными». Толстой в конце жизни предпринял осмотр местных больниц и после этого писал, что «видел учреждения, устроенные душевнобольными одной общей, повальной формы сумасшествия, для больных разнообразными, не подходящими под общую повальную форму, формами сумасшествия»47. Однажды он выступил в поддержку автора анонимной статьи, в которой описывался случай помещения здорового человека в психиатрическую больницу. После выхода статьи, однако, обнаружилось, что автор был пациентом психиатрической больницы, где его безрезультатно лечили от паранойи. Оскорбленный врач в ответ писал: «Ясно, что можно быть гениальным писателем и ничего не понимать в психиатрии»48. Но и после этого инцидента взгляды Толстого остались неколебимы. Он назвал психиатрию «комической», «воображаемой наукой» и высмеивал классификации душевных болезней за их неопределенность. По-видимому, под влиянием толстовского учения один из московских психиатров закрыл свою клинику, «опростился» и уехал в свое имение, стал хозяйствовать, заниматься пчеловодством и столярным ремеслом49.
В отличие от негативного отношения к больничной психиатрии, Толстой, похоже, ничего не имел против «нервных» санаториев и даже сам после попытки его жены уйти из дома удалился в «санитарную колонию Ограновича»50. Санатории и клиники для невротиков по своему устройству, размерам, образу жизни и лечению отличались от традиционных больниц. Огромные, иногда рассчитанные на несколько тысяч пациентов общественные заведения для душевнобольных напоминали скорее места заключения, чем лечебные заведения. Они были государством в государстве: жизнь и пациентов, и врачей была в них строго регламентирована и устроена по жесткому иерархическому принципу. Мишель Фуко дал яркое описание таких больниц: их главные врачи походили на феодалов, окруженные пациентами, как слугами. Пациенты часто помещались в приюты насильно, по требованию семьи или властей, и были совершенно бесправны. Даже частные лечебницы для душевнобольных служили в основном интересам семьи, которая хотела избавиться от «неудобного» по тем или иным причинам родственника. И все же частные лечебницы были несравнимо менее пугающими, чем наводившие ужас «желтые дома» (они назывались так по цвету, в который обычно красились стены казенных больниц)51.
В России первая частная лечебница для душевнобольных была основана в 1830 году, когда доктору медицины и хирургии Ф.И. Герцогу после двух лет хождения по инстанциям удалось получить на это разрешение. В 1831 году в лечебнице находилось восемь человек: шесть мужчин и две женщины52. В частных лечебницах один служитель приходился на одного-двух больных, медсестра — на 4–7 больных, врач наблюдал 10–14 пациентов, а в палате находилось не более двух человек. Это делало ненужным наказания и меры стеснения — цепи, смирительные рубахи, хотя в общественных больницах они применялись еще долгие годы53. В правилах предписывалось «с призреваемыми вообще обходиться возможно более кротко», а для развлечения «доставлять им приличные занятия». Московская публика вообще имела обыкновение приходить в дома умалишенных поглазеть на больных, но в частной лечебнице такие посещения не дозволялись.
Наследники Герцога — В.Ф. Саблер (он заведовал лечебницей сорок лет, вплоть до своей смерти в 1871 году), Корсаков, Сербский и Баженов — сняли решетки с окон и перестали запирать палаты на ключ. Так называемая система нестеснения не только дала больше свободы и комфорта пациентам, но и создала лучшие условия для клинических наблюдений. Корсаков заметил: если условия психиатрической больницы унифицируют пациентов и тем самым способствуют обобщению, то более разнообразные условия содержания в частных клиниках дают возможность наблюдать случаи, которые без этого могли бы остаться незамеченными. Не случайно клиника Герцога была первым психиатрическим заведением, в котором появились «скорбные листы» — истории болезни пациентов.
В 1886 году в Москве было уже семь частных лечебниц с более чем 170 местами для пациентов, а всего в России насчитывалось 13 лечебниц с 400 койками — что, конечно, было лишь малой долей от общего числа призреваемых в домах умалишенных, примерно 6–7 %. К 1907 году в Москве было открыто 17 новых частных заведений для нервно- и душевнобольных и алкоголиков, рассчитанных на более чем 300 пациентов, а в следующее десятилетие (с 1907 по 1917-й) — еще 18 лечебниц и санаториев на более чем 350 мест. В 1911 году из 266 специа-листов-психиатров примерно одна треть работала в лечебницах (44 врача) или была занята частной практикой (37 врачей). Большинство (27 и 34 соответственно) работали в Москве, наиболее богатой потенциальными клиентами54. Николай Осипов свою карьеру психиатра также начал в лечебнице Герцога, куда его пригласил Баженов в 1906 году. Проработав там год, он перешел в другую частную клинику, но вернулся в 1910 году, а с началом войны, когда Баженов и другие старшие врачи покинули клинику для фронта, стал ее заведующим55.