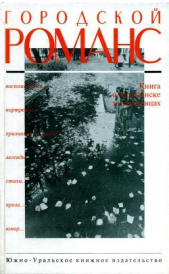Парабола замысла

Парабола замысла читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
“Трое наших пропали без вести.
В штабе над оперативными картами склонились оперативные работники. На карте очерчен район Охотского моря.
С аэродромов взлетают самолеты. Туман, туман над морем. Молчит море.
Над безбрежными океанскими просторами летят поисковые гидросамолеты. Туман, туман. Ракеты, сигнальные ракеты.
Вертолеты ощупывают, облетают каждую прибрежную скалу. Ищут локаторы, работают радары. Все меньше становится на карте район поисков.
Опять меняют курс корабли. Ищут военные, идут рыбаки. Крик несется над просторами океана...”
Это нетрудно написать: “Все меньше становится на карте район поисков”, а как передать это в кино? Ведь надо же, чтобы это была не просто информация “происходит то-то и то-то”, надо было захватить зрителя ощущением поиска, напряженностью ожидания.
И в момент полной безвыходности родилась спасительная идея: построить эпизод на фотографиях, к которым я прибегал уже не в первый раз (в “Дяде Ване” они были, в “Асином счастье”). Я понял, что статичные снимки можно смонтировать в нервном ритме поиска, и пришло ощущение великого освобождения, возникающее всякий раз, когда чувствуешь, что избежал ненужной работы.
Иногда бывает: пишешь какой-то эпизод в сценарии или снимаешь какую-то сцену, но не идет, не получается. Непонятно, как быть. И вдруг думаешь: “А может, все это и не нужно?” Смотришь — действительно не нужно.
В “Романсе” мы дважды снимали сцену возвращения Сергея домой. Он входил, говорил: “Мама, я вернулся! Я дома, дома...” Мать говорила: “Дети! Откройте двери, столы раздвиньте — пусть все приходят...” Не получалось. Выходило надуманно, холодно. “А может быть, сцена не нужна? — подумал я. — Ведь она по содержанию дублирует следующую — в доме Тани”. И не стал переснимать в третий раз. Отказался от сцены вовсе. Не знаю, быть может, если бы она удалась, то была бы нужной в фильме. Но сейчас я не ощущаю ее отсутствия.
До “Романса о влюбленных” я снимал картины, где основным был момент безусловности, правдоподобия, реализма в обыденном значении слова. Все строилось на понятных зрителю жизненных законах. К условности я относился весьма нетерпимо. Не любил Брехта, мне казалось, что он холоден. Сейчас я понимаю, что не любил не Брехта, а то, как его ставили.
Думаю, что в искусстве для меня всегда будет оставаться главным единственный критерий: волнует или не волнует. Волнует — значит, попадание. Значит, это искусство. Ведь искусство всегда сначала действует на чувство, на подкорку, а потом уже на сознание. Форма же брехтовских спектаклей апеллирует непосредственно к сознанию. Происходит своеобразное смещение: содержание оттесняется, подменяется формой. То же могу сказать и о пьесах Пиранделло. И он и Брехт казались мне чересчур рациональными в своих поисках театральной формы. Думаю, я ошибался. Эти художники сознательно идут самым трудным путем, не боятся обнажать себя, показывать самые уязвимые свои стороны. Они открыто говорят зрителю, что он видит не “правду”, а специально рассказываемую для него историю.
Обо всем этом приходится говорить так подробно, потому что с самого начала работы над фильмом перед нами стала проблема условности, предопределенная самой формой сценария. Правда, там еще не было условности столь определенной и открытой, какая оказалась потом в фильме. Но был белый стих, которым разговаривали герои, была некоторая условность отношения к драматургическому материалу, выражавшаяся в опущениях психологически важных моментов развития. Манера изложения несла в себе отпечаток детских дадаизмов, в ней было что-то напоминающее обороты из старых сказок: “А потом она вышла замуж за другого и жила с ним долго и счастливо”. И еще был Трубач, персонаж, не укладывавшийся ни в какие рамки жизнеподобного кино, впрямую обращавшийся к зрителям с программно важными авторскими словами.
Современный кинематограф к подчеркнутой условности обращается нередко. Можно припомнить множество мюзиклов, где с экрана звучит не прозаическая речь, а пение. Или такой фильм, как “Шербурские зонтики”. По теме он очень близок нашему, а конечная задача — совершенно иная. Там в основе всего — эстетизация. Зрителю предлагается наслаждаться искусством, а не сопереживать героям.
Нам же хотелось, чтобы зритель тоже знал, что перед ним не кусок действительной жизни, а специально для него разыгрываемое “действо”, но при этом сопереживал бы героям, страдал, плакал. Нам хотелось сделать нашу “неправду” такой, чтобы она волновала. Эти задачи были для меня новыми. Прежние мои картины построены на психологической, реалистической игре актеров с подробным прослеживанием развития отношений. Здесь же надо было шагнуть в область неведомого, быть может, даже запретного для меня как режиссера. Испытать, получится ли у меня это. Искать.
Сложность была в том, что для такой картины нужен был режиссер не моего склада. Я люблю из кадра в кадр постепенно, длительно прослеживать развитие отношений. Здесь же нужен был художник типа Ильенко или Урусевского, тяготеющий к языку поэтическому, к кадрам-метафорам, к нагромождению пластической образности. В сценарии было множество мест, требовавших достижения эмоциональности в пределах одного-единственного кадра. Когда на экране идет длинная, подробная сцена, актеру не столь уж трудно прийти к накалу чувства. Но если вся сцена укладывается в один-два кадра, то снимать ее так же трудно, как экранизировать Библию. В Евангелии масса фраз типа: “И он шел и все смотрели на него”. Кто смотрел? Как смотрел? Какие чувства выражало каждое из этого множества лиц? Можно ли все их вместить в один кадр так же легко, как в одну фразу? Пазолини, сняв “Евангелие от Матфея”, справился с задачей потрясающей сложности — достиг глубины и эмоциональной заразительности при аскетичном лаконизме языка. Ему достаточно всего трех кадров — лица девы Марии, смущенного Иосифа и голубя, чтобы рассказать всю предысторию рождения Христа. За внешней простотой формы — предельная ее насыщенность. Сценарий “Романса о влюбленных” выдвигал задачи подобной же сложности. В общем, на формирование картины в ее окончательном облике коренным образом повлияли два главных момента: первый — Трубач, персонаж-интермедиатор, связующий реальный мир людей, сидящих в зале, с вымышленным миром экрана; второй — музыка.
По первоначальному сценарию музыки в картине должно было быть совсем немного. Была песня Булата Окуджавы “Неистов и упрям — гори, огонь, гори...”, которую Трубач пел на свадьбе Тани и Хоккеиста, была прощальная песня, которую герой пел, уходя в армию. Еще была в конце колыбельная. Все песни естественно входили в действие, так же как, скажем, в финале “Белорусского вокзала” совершенно органично возникла песня о войне. Мне еще в начале работы над картиной думалось, что такой путь не единственно возможный, хотя я еще не мог представить, как все повернется дальше.
Перед самым нашим отъездом в экспедицию на Оку в отчаянии и панике было сочинено три песни, одной из которых была “Песнь о любви” (“Только я и ты, да только я и ты...”). Найдет ли она себе место в фильме, я еще не мог знать. Хотел положить ее как закадровый музыкальный фон на сцену любви. Потом пришла мысль: “А что, если герой возьмет в руки гитару и сам споет эту песню?” Она была вполне органичной здесь: влюбленные только что купались в реке, играли, дурачились — песня была естественным выражением их чувства. Впрочем, песня строилась так, что ее звучание обретало и более широкий смысл: начинал петь герой, а продолжал и оканчивал за него уже автор.
В том месте реки, куда мы приехали снимать, стояла большая старая баржа. И как-то сама собой возникла мысль сделать из этой железяки некий странный ковчег, приют влюбленных. Мы загнали на палубу коз, втащили мотоцикл, развесили на веревках одежду для сушки — пространство ожило.
Я увидел, что здесь можно сыграть продолжение (отсутствовавшее в сценарии) любовной сцены, которую мы еще не сняли. Палуба была такой просторно-свободной, что словно сама требовала, чтобы на ней танцевали.