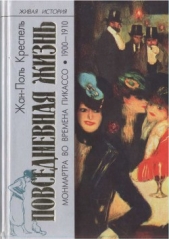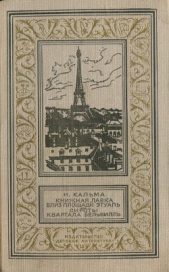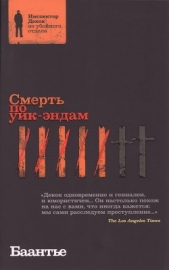От Монмартра до Латинского квартала

От Монмартра до Латинского квартала читать книгу онлайн
Жизнь богемного Монмартра и Латинского квартала начала XX века, романтика и тяготы нищего существования художников, поэтов и писателей, голод, попойки и любовные приключения, парад знаменитостей от Пабло Пикассо до Гийома Аполлинера и Амедео Модильяни и городское дно с картинами грязных притонов, где царствуют сутенеры и проститутки — все это сплелось в мемуарах Франсиса Карко.
Поэт, романист, художественный критик, лауреат премии Французской академии и член Гонкуровской академии, Франсис Карко рассказывает в этой книге о годах своей молодости, сочетая сентиментальность с сарказмом и юмором, тонкость портретных зарисовок с лирическими изображениями Парижа. В приложении к книге даны русские переводы некоторых стихотворений поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты?.. Ты любишь мои картины? А? И за что?.. Они тебе понятны?.. Нравятся?.. Как женщины?.. Ха, ха, ха! Да, это так.
Каждое утро меня ожидало то же удовольствие. А если я делал новое приобретение, я просыпался десять раз в ночь, зажигал лампу и погружался в созерцание, полное для меня невыразимого наслаждения. Это походило на колдовство, на зачарованность, настолько своеобразную, богатую оттенками, насыщенную сладострастием, что я с искренним сожалением вспоминаю ныне те дни, когда, не имея ничего, я чувствовал себя богаче всех на свете посреди этих полотен и разбросанных листов моего первого романа.
В доме, куда случай привел меня года за два до войны, жил когда-то Макс Жакоб, — и консьержка еще отлично его помнила. Что за странная женщина была эта консьержка! Обо всем решительно у нее имелось авторитетное мнение, и она очень любила давать советы. Заставая меня часто лежащим на кровати, среди невероятного беспорядка, она говорила:
— Напрасно вы, м-сье, постоянно их меняете… Нет, нет это нехорошо!.. И хотите знать мое мнение? Та маленькая дама, что была вчера, гораздо лучше сегодняшней!
— Занимайтесь лучше своим делом!..
— Как угодно, м-сье… А что касается этих картин… Нет, можно ли себе представить что-нибудь подобное?
— Да будет вам! Замолчите!
— Нет, не замолчу!
И эта милая особа начинала сравнивать работы Модильяни с гравюрами в квартире господина из четвертого этажа: на тех по крайней мере можно что-нибудь разобрать, а эти ужасные бабы…
— Это вы называете красотой? — восклицала она. — О, господи! Да они похожи на…
— Что-о?!
— Да, да, м-сье, на…
Я вскакивал с постели и выгонял консьержку вон из комнаты. Она с достоинством выплывала за дверь и уже там начинала вопить о помощи.
— Убирайтесь к чорту, — орал я в свою очередь, — и оставьте меня в покое!
— Очень хорошо, нечего сказать!
— Вы слышали, что я сказал?
— А ваша почта, — кто ее вам принесет, раз вы меня прогоняете?
— Так ступайте за почтой, — отвечал я, — но чтобы я вас не видел здесь больше! Суньте ее под дверь.
— Понимаю, — кивала головой старуха.
И, очень пунктуальная, она в ту самую минуту, когда я пытался начать работать, взбиралась на цыпочках на лестницу и подсовывала, как я требовал, под дверь почту. Однажды, после такой перепалки, я рассвирепел, найдя под дверью бумагу, на которой большими буквами было написано:
«Первая почта: НИЧЕГО!»
В другие разы — и тогда я уже только смеялся, — рвение моей консьержки доходило до того, что она на страницах моих рукописей писала мне разные чисто материнские наставления.
«М-сье, — прочел я однажды, — принимайте настой померанцевых листьев в горячем виде. Настой из померанцевого листа помогает уснуть».
Поверите ли, эта женщина, — под предлогом уборки и заботы о моем хозяйстве — входила ко мне, не стучась, когда ей было угодно, и, если видела меня за столом, бормотала с восхищением:
— Как, вы работаете?! О! Дайте мне постоять тут и полюбоваться на вас, м-сье… Я вам не буду мешать… Позвольте!.. Это такое редкое зрелище…
Я мог сердиться или нет — она все равно не уходила. Иногда я в гневе одевался и выходил, а консьержка, пользуясь моим отсутствием, водила в мою комнату жильцов дома, ища сочувствия своему возмущению «ужасными» картинами Моди.
То, что она рассказывала им про меня, превосходило самую изощренную фантазию. Я, по ее словам, был чудовищем, не платил ей за работу, волочился за нею — и так далее и так далее. Она не уставала изображать меня всем в таких заманчивых красках, что соседи бегали от меня как от чумы. Никто из них не отвечал на мои поклоны. На меня просто пальцами указывали. А если мне случалось возвращаться домой утром и навеселе, m-me Делескалье отмечала это событие дикими воплями и, запершись в своей узкой каморке, чтобы меня пристыдить, подражала походке пьяного и грозила мне кулаком.
Несмотря на все это, она была прекрасная женщина и трогательно заботливая. Она, например, способна была специально подняться наверх, если утром морозило, чтобы предупредить меня:
— Наденьте сегодня теплое пальто, сударь, потому что ужасно холодно…
А если я на несчастье кашляну при ней, она мчалась в аптеку и возвращалась с огромной бутылкой какого-нибудь отвара, с горчичниками, с мазью, с порошками аспирина, с микстурами и с двадцатью какими-то снадобьями, за которые я потом должен был платить аптекарю.
XVI
В названии той набережной, где я жил, имеется тринадцать букв. И, так как я жил как раз в доме номер тринадцать, Макс Жакоб уверял меня, что это сулит удачу. Да, да, большую удачу… Я быстро заразился от него суеверием. Направо от нашего дома, по набережной, в доме Элоизы и Абеляра, теперь находилось… полицейское бюро! В этом доме жили поэт Жан Дорсэн и гравер Луи Жу. Часто я ожидал появления Жу на балконе, чтобы в зависимости от этого распределить свой день. Если же он не показывался, я загадывал что-нибудь, глядя на четырех диких уток, выделявшихся под бледным зимним небом на поверхности воды как чернильные пятна; я считал шаланды, перекликавшиеся на ходу с маленькими, неуклюжими и пыхтящими буксирами… Четыре шаланды… Четыре утки… и Луи Жу… Я искал в этом каких-то предзнаменований. А то я, вместо уток, считал пуговицы, недостававшие на моем костюме, — и проникался радостной уверенностью в удаче.
Увы! Сколько я, вопреки всем этим благоприятным предзнаменованиям, перенес разочарований, вежливых отказов со стороны издателей! Сколько понадобилось упорства, чтобы не пасть духом! Я не унывал. Я обивал пороги журналов, предлагая рассказы, за которые мне, если их брали, платили по сто су. Я писал поэмы. Я радовался жизни. Какое счастье — жить! Пускай меня выпроваживали отовсюду, куда я являлся со своими произведениями, — это не имело значения! Я выбрал свою дорогу и, глотая все эти неудачи, не отчаиваясь, весело говорил себе: «Придет мой день!» — и не думал о неудачах.
Если бы только не сроки платежей, которые меня всегда заставали без гроша в кармане и вынуждали занимать деньги у Гюбера или у моих знакомцев с улицы Бучи, — я чувствовал бы себя счастливейшим из смертных. Но, впрочем, что платежи? Выпутываться я привык, а Гюберу, выручавшему меня, я платил не деньгами, а песнями. Не терзаться же мне теперь по этому поводу? Пожалуй, оно было бы поздновато! Да к тому же все мы в то время переживали такие затруднения, даже сроки платежей у нас, совпадали, — и никогда, ни разу, не жаловались на жестокость судьбы, потому что твердо верили, что придет время — и она нам улыбнется.
Помнишь ли, Марио, ту ночь под Рождество, когда мы сидели битых три часа на террасе «Двух обезьян» перед кружкой холодного, как смерть, пива, дрожа от стужи и мокрые до нитки? Лил дождь. Ну, и ночка была! Она крепко врезалась мне в память. Ты обыкновенно ночевал у Родэна, у которого служил секретарем, в Медоне, среди мраморных статуй, и, просыпаясь, пугался их. Но Родэн тебе отказал от места, и у нас оставался один франк на двоих. Да. И все-таки — это была прекрасная ночь! Такая пустынная, с ее огнями таксомоторов и фиакров, мчавшихся мимо во мраке, такая горьковато-влажная! В воздухе носился запах каких-то растений. Быть может, это был аромат мокрых от дождя каштанов на бульваре. Мы проходили мимо колбасных, засунув руки в карманы, не останавливаясь, потому что вкусный запах щекотал нам ноздри. Мы были молоды. Мы говорили о наших книгах, о друзьях. Мы читали друг другу вслух стихи. Влажный ветер, огни, черные улицы квартала нас возбуждали до такой степени, что мы забывали о своей бедности и уносились на крыльях надежды.
Помнишь ли… Но к чему вспоминать? Мы пережили столько таких ночей, что одной больше, одной меньше — не все ли равно? «Такова жизнь», — сказал кто-то, — и он был прав.
Если бы мы захотели считать утраченные мгновения, мы оба никогда не кончили. И все же — я не забыл ничего из наших восторгов, наших увлечений, наших порывов, наших излияний — и искренней дружбы, которая нас связывала, связывает и поныне. Что было нам за дело до дождя, до ветра, до зимней стужи, до лишений и разочарований каждого дня? Они не имели над нами власти, не устрашали нас. Дорэн, однажды вечером, поделился со мной своим планом: