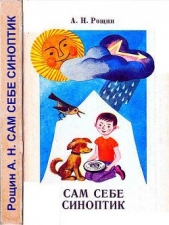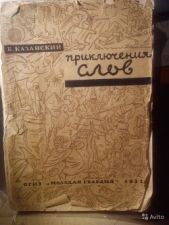Венок сюжетов

Венок сюжетов читать книгу онлайн
В основу этой книги положены лекции, прочитанные одесским искусствоведом и литературоведом Б. А. Владимирским в Виннице в 1986–1988 годах. Записанные на магнитофонную ленту, они сохранились, а теперь превратились в книгу. По жанру это увлекательные беседы о проблемах культуры, об истории искусства и литературы, о личности художника и его позиции во времени.
Книга адресована всем, кто интересуется судьбами отечественной культуры.
Издание посвящается 200-летию Одессы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, начнем с того, что театральная пародия – всегда актуальный или, если будет позволено использовать это слово, животрепещущий жанр.
Театр, вообще говоря, – дело кровавое, очень серьезное и ничуть не смешное. Это я говорю со всей ответственностью, поскольку всю жизнь свою так или иначе связан с театром, даже приходилось что-то делать на сцене, ставить какие-то, не Бог весть какие, но спектакли, и писать всю жизнь о театре, и дружить с людьми театра, и ссориться с ними…
Театр – дело, которое, по Пастернаку, «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез». Ибо, выходя ежевечерне перед публикой, актер творит произведение искусства из собственных нервов, из собственной крови, из собственного тела, из собственных чувств, он жизнью расплачивается за успех, за аплодисменты или за неуспех, за шиканье и уходы из зала.
Сейчас существует такая медико-психологическая версия, что театр, давая возможность психологической разрядки, на самом деле способствует актерскому долголетию и помогает изживать те комплексы, от которых мы, простые смертные, не имеющие возможности выйти на сцену, страдаем и раньше времени отдаем концы. Но я не могу согласиться с этой теорией, потому что я видел, и вся история театра об этом повествует, какое все-таки это опасное, трудное и бесконечно серьезное дело. Бесконечно ответственное.
И, может быть, именно поэтому всегда рядом с театром существует его многократное отражение в зеркале юмора, в зеркале смеха, в зеркале пародии. Ибо это серьезнейшее дело требует разрядки, требует выплеска. Отсюда такое огромное количество актерских баек, анекдотов. И вроде бы только что он на сцене потрясал души трагическими эмоциями – и вот он уже за кулисами шутит и рассказывает истории о прошлогодних гастролях…
Мне кажется, что эта разрядка действительно жизненно необходима людям театра, ибо иначе напряжение становится почти смертельным. У меня нет возможности это доказать статистически, но весь опыт мирового театра доказывает, что это именно так.
И второе – может быть, еще более интересное. Театр ведь по природе своей сам весь есть ложь, обман. Любое искусство – ложь, любое искусство – вымысел. Не в плане высоко идеологическом. По тому плану оно – правда, вероятно. Но это – правда путем вымысла, правда при помощи лжи, правда средствами фантазии. А в театре эта кажимость – она на глазах, она возведена в квадрат: здесь марля притворяется бархатом, здесь мужчина притворяется женщиной, здесь тесное пространство притворяется всей вселенной. Сплошное притворство, карнавал!
Действительно, если взглянуть на театр наивным глазом, совершенно не будучи завсегдатаем театральных кресел, – Господи Боже мой, сколько здесь придуманного, искусственного, условного, буквально напрашивающегося на осмеяние и на пародию! Театр в этом смысле куда более уязвим, чем другие виды искусства. Скажем, кинематограф: то, что проецируется на киноэкран, безусловно, оно снято в настоящем лесу, как правило. А здесь – пыльный пенек какой-то, и тряпочки висят, изображающие зелень… Все притворство!
Мне кажется, что одна из самых замечательных театральных пародий принадлежит… Льву Николаевичу Толстому. В эпопее «Война и мир», во втором томе, он рассказывает о первом посещении Наташей Ростовой оперы. Он описывает спектакль, как бы глядя ее глазами. Глазами, по существу, ребенка. Или вольтеровского Простодушного, дикаря, попавшего в цивилизованное общество. Это та точка зрения, которую Толстой в себе сознательно культивирует, не принимая современного ему искусства, поскольку оно с его точки зрения, есть разврат и услаждение десятков тысяч и абсолютно чуждо народу.
Давайте взглянем на то, что видит Толстой вместе с Наташей Ростовой. Это пишет очень серьезный человек без всякого желания нас с вами рассмешить – это надо помнить.
На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках…
То есть на сцене были не деревья, не дом, не дворец, а доски, полотно.
В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то.
Это эффект примерно тот же, какой бывает, когда мы выключаем у телевизора звук.
Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.
Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь, и разводя руками, кланяться.
Потом о самочувствии Наташи, ее переживаниях, и продолжается описание второго акта, где Толстой снова использует этот прием остраннения (привычное делает странным).
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колена и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.
Снова о Наташе, об Анатоле…
В третьем акте был на сцене поставлен дворец, в котором горело много свечей и повешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правою рукой и, видимо робея, дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке, с. распущенными волосами, и стояла около трона. Она о чем-то горестно пела, обращаясь к царице, но царь строго махнул рукой, и с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело, одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одною ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали браво. Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами.
В скобках Толстой замечает, уж вовсе накаляясь от ненависти:
(Мужчина этот был Duport, получавший шестьдесят тысяч рублей в год за это искусство.) Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать изо всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться на все стороны. Потом танцевали еще другие, с голыми ногами, мужчины и женщины, потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и все стали петь. Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась. Опять между зрителями поднялся страшный шум и треск, и все с восторженными лицами стали кричать:
– Дюпора! Дюпора! Дюпора!
Вот попытка увидеть театр глазами беспристрастными, а в то же время чрезвычайно пристрастными. Ибо сколько Толстой ни изображает Простодушного, он все-таки понимает, что такое хроматическая гамма и уменьшенная септима. И тем не менее он пытается отрешиться от этого своего знания, от своего понимания и увидеть то, что, с его точки зрения, являло собой всю рутину, пошлость, мерзость театра.