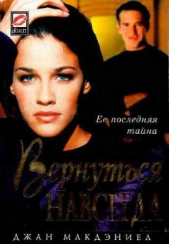Петрарка

Петрарка читать книгу онлайн
Имя Яна Парандовского хорошо известно советскому читателю по трем его переведенным на русский язык книгам - "Алхимия слова", "Мифология", "Небо в огне".
В предлагаемый сборник включены романы: "Олимпийский диск" - об истории олимпийских игр, "Петрарка" - о великом поэте Возрождения и небольшая миниатюра "Аспасия" - о жене правителя Афин Перикла.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо длинное, пересыпанное цитатами из Вергилия, Саллюстия, Энния, Лукана, в ход были пущены комплименты, перед которыми не устояло бы даже самое требовательное тщеславие: "ты овеял славою наш век", "мы поздравляем себя и нашу родину, которая дала такого великого сына", "ты - единственный и несравненный, такого не видели минувшие века и не увидят грядущие", "ты свет и блеск нашей отчизны"... В последней фразе сказано, что письмо отвезет "наш чрезвычайный посол" Джованни Боккаччо.
Боккаччо нашел Петрарку в Падуе и получил не менее красноречивый ответ. Петрарка рассыпался в словах благодарности, уверял в своей радости и гордости, которые его переполняют в связи с оказанной ему высокой честью. "Что касается моего возвращения, бог свидетель, как страстно я желаю подчиниться вашим приказам, но не все можно высказать в письме, я поручаю это живому слову вашего посла. Славный муж, Джованни Боккаччо, из рук которого я получил это письмо, передаст вам мои чувства столь же верно, как если бы я сам высказал их перед вами".
Неизвестно, какого рода было это поручение, можно предположить, что то была либо дипломатическая отговорка, либо торг о соответственном имущественном наделе. Флоренция была скупа. Боккаччо, которого посылали с различными миссиями, платили столь же скупо, как и сто лет спустя Макиавелли, которому не раз приходилось стыдиться своего убожества при пышных дворах, где он бывал послом. Принимая приглашение Флоренции, Петрарка вынужден был бы отказаться от ряда приходов, обеспечивавших ему вполне приличное содержание, поэтому ему следовало или постараться получить такие же бенефиции в пределах Флоренции, или каким-то иным образом покрыть убытки. Все свидетельствует о том, что Петрарка не торопился воспользоваться почетным приглашением и был, скорее, им озабочен.
Он не доверял своему городу. Тревога, всегда охватывавшая его среди тесных улиц и стен с закрытыми воротами и бастионами, та тревога, которая гнала его на открытые дороги и поля, овладевала им теперь при одной только мысли о Флоренции. "Пятая стихия", как некогда Бонифаций VIII назвал этот бурный город, не соответствовала нраву поэта, всегда склонного к одиночеству и покою, а с годами еще больше стремившегося к безопасности и тишине. Петрарка не надеялся найти это во Флоренции.
Флоренция была огорчена. Чего же хотел этот человек, переменчивый, как осенняя погода? Ведь не кто иной, как он сам, в стихотворном послании к Зенобио да Страда домогался приглашения в город, который изгнал его отца. Ведь это он перечислял в гекзаметрах все города, которые звали его к себе и оказывали ему почести, всех князей, которые предлагали ему свою дружбу, только для того, чтобы в конце словами горечи и раздражения упрекнуть Флоренцию за ее молчание. Теперь, когда наконец она, отбросив спесь, заговорила чуть ли не со смирением, он ответил высокомерно и вел себя так, словно собирался засунуть их письмо вместе со старыми бумагами в ящик стола. Боккаччо выслушал от своих земляков немало горьких слов, а Флоренция в конце концов взяла обратно свой дар, и о возвращении Петрарки больше не было речи.
Он думал о другом возвращении. Его вдруг с неотразимой силой охватила тоска по приюту отшельника в Воклюзе, где он не был четыре года, по роскошным полям, виноградникам, оливковым рощам, по книгам, которые он там оставил, по дому, полному воспоминаний и снов, по незаконченным трудам. Пресыщенный обществом людей и собственной славой, он хотел укрыться в уединении, помнящем его безымянные дни. Он вернулся в разгар лета, когда виноградные гроздья золотились на лозах, сплетенных по итальянскому способу в гирлянды, от дерева к дереву, когда сад был румяным от яблок, а Сорг, бежавший по камням, скандировал свою бессмертную эклогу.
S.P.Q.R. [40]
Естественно, Петрарку не оставили в уединении. Давно уже дорога из Авиньона в Воклюз не видела столько экипажей, столько конных и пеших путников. Прекрасная пора года благоприятствовала этим экскурсиям и в какой-то мере оправдывала их в глазах недовольного поэта, который вынужден был принимать все новых и новых гостей. Местные жители, удивленные числом кардиналов, епископов, аббатов, которые чередой съезжались к истокам Copra, терялись в догадках и полагали, что, наверно, сам папа проводит лето в этих краях. Более осведомленные соседи Петрарки не разуверяли их в этом, понимая, какой вызовет смех объяснение, что цель всех этих странствий - скромный домик поэта в Воклюзе.
Авиньон никак не хотел согласиться с тем, что Петрарка снова уединился в деревне, среди книг и бумаг. В курии, где он был с коротким визитом сразу же после приезда, его приняли с большой предупредительностью и после этого не давали покоя, предлагая должность апостольского секретаря. Но Петрарка решительно отказался. Даже в молодости он всячески избегал официальных должностей, и теперь, в расцвете славы, пойти на службу в какое-нибудь беспокойное учреждение казалось ему величайшей глупостью. Зато он принял приглашение комиссии кардиналов, избранной для составления новой конституции Рима, и изложил им свое мнение в двух посланиях.
Не вникая в детали, касающиеся структуры управления и учреждений, городского ополчения или налоговой системы, Петрарка писал о величии Рима и славе Вечного города, чуть ли не в каждой фразе упоминая Respublica Romana, и примеры брал из эпохи Республики, перескакивая через Римскую империю явно для того, чтобы обойти молчанием ее средневековую имитацию - Римскую империю германской нации.
В этом он был понятен и современен, ибо настаивал, чтобы в Риме правительство опиралось на самих римлян, на римский народ, который завоевал это право еще в прадавней борьбе с патрициями. Требуя отстранить от правления чужеземных пришельцев, Петрарка употреблял те же страстные слова, которыми некогда подогревал гнев римского трибуна против баронов. Он считал их чужаками, потомками германских родов, захватчиками, и, в сущности, его удар был направлен против самой феодальной системы, чуждой латинскому духу, создавшему собственную демократию еще в те времена, когда германцы жили в лесах, как дикие звери. Что же тут ломать голову над строем Рима, когда он на вечные времена был определен этими священными буквами - S.P.Q.R. Senatus Populusque Romanus! Достаточно вдохнуть в них новую жизнь, достаточно вернуть им прежнюю силу и славу.
Со страницы, на которой он писал, словно водяной знак, проступал облик трибуна. Петрарка откладывал перо и всматривался в голую стену, на которой виднелась тень его головы, прикрытой капюшоном, колеблющаяся вместе с огоньком свечи в подсвечнике. Где ты, Никколо?
Никколо был в Праге, в тюрьме. Император Карл IV, под покровительство которого бежал Кола ди Риенцо, долго не знал, что делать с изгнанником. Кола удивил его и ошеломил. Он забрасывал императора письмами, в которых то оправдывал свои действия, то снова строил необыкновенные планы. Говорил о папской тиаре, о золотой короне императора и серебряной - трибуна, который будет князем Рима. Нужно провести реформу церкви, писал он, вернуть ей прежнее достоинство, евангельскую строгость. Император сдерживал его, как мог: hortamur ut dimittas fantastica - напоминаем тебе, чтоб ты отказался от этих фантазий. В конце концов, узнав, что в Авиньоне Кола ди Риенцо обвиняют в ереси, он стал его опасаться и отдал пражскому архиепископу. Архиепископ некоторое время подержал Никколо под арестом, ожидая более четких указаний из Авиньона. Наконец папа потребовал вернуть узника.
"Недавно, - сообщал Петрарка своему флорентийскому другу Нелли, - в курию пришел, вернее, не пришел, а его привели как пленника, Никколо, сын Лоренцо, некогда грозный трибун Рима, а ныне несчастнейший из людей, хотя я не совсем уверен, достоин ли в своем несчастье жалости тот, кто, имея возможность геройски погибнуть на Капитолии, предпочел сидеть в тюрьме, сперва в Чехии, потом в Лиможе, и тем самым выставить на посмешище имя Рима и Республики. Больше, чем я бы того хотел, известно, сколь часто мое перо занималось его именем и славою. Я любил в нем добродетель, прославлял его намерения, восхищался его духом; я поздравлял Италию и благословенный город с приобретением нового властелина, предсказывал мир всему свету; я не мог скрыть радости, которая била из стольких источников, мне казалось, что сам я разделяю эту славу, я вдохновил его, о чем свидетельствуют его собственные послания и письма. Я подогревал его разум всем, что мог придумать, чтобы разжечь эту пламенную душу. Я хорошо знал, что ничто так не согревает благородной души, как слава и хвала, поэтому не скупился на них, многим казалось это преувеличением, но мне - искренней правдой; я вспоминал давние его деяния и побуждал на новые. Сохранились некоторые мои письма к нему, я нисколько их не стыжусь, ведь я не пророк, да и сам он не мог всего предвидеть. Тогда, когда я писал их, он был достоин не только моей похвалы, но и восхищения всего человечества - и тем, что уже сделал, и тем, что еще намеревался сделать. Быть может, только по одной причине эти письма следовало бы уничтожить, именно потому, что он предпочел жить в бесчестии, чем умереть в славе. Но тут уж ничего не поделаешь: если б я даже хотел их уничтожить, сделать это не сумею - они стали всеобщим достоянием, я не властен над ними. Однако вернемся к делу.