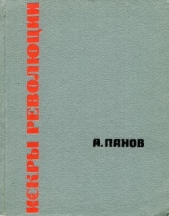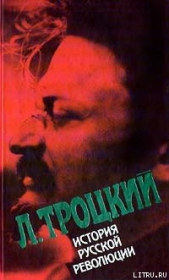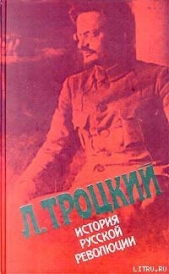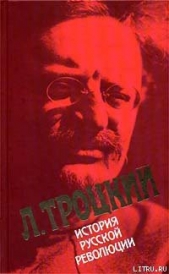Малый народ и революция (Сборник статей об истоках французской революции)

Малый народ и революция (Сборник статей об истоках французской революции) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
140
Отсюда такой точный и живой протокол, тем более поразительный, что он составлен с той очевидной добросовестностью, которая является выдающейся чертой характера Тэна.
И все же это отлично проведенное следствие заходит в тупик в одном пункте: преступление доказано, убийство признано — но мотивы, даже средства остаются неизвестными. Фигуры, сцены восстановлены с большой точностью, с блеском деталей и доказательств, с подобающей строгостью комментариев; и, однако, вопреки правилам, это еще больше сбивает с толку и дезориентирует. С самого начала Революция предстает как какой-то беспримерный и бесцельный приступ помешательства; никакого соответствия между причинами общего порядка, довольно-таки банальными, которые открывают главы, и фактами, странными и точными, которые идут дальше: взрыв дикости в 1789 г. — гнусные убийства г.г. Бертье, Бельзанса, Юэ и стольких других — непостижимая тирания Пале-Рояля — великое помутнение разума Конституанты — и позднее ад 1792–1795 гг. Тэн рисует душераздирающую картину: это прекрасное королевство, достигшее такого культурного совершенства; это поколение, так превосходящее нас в том, что касается вкуса, культуры, учтивости в широком, старинном смысле слова; этот век, о чьих останках спорит наш век и чьи мельчайшие реликвии неловко копирует, как варвары копировали остатки римской античной культуры, — все это вдруг за несколько месяцев потонуло в крови и жестокости под тупой тиранией якобинского Калибана. Не знаешь, что и думать об этом; сомневаться не приходится, поскольку факты в конце концов налицо — точные, многочисленные, бесспорные. Но — непонятные.
141
Отсюда и критика: она касается не столько фактов, сколько объяснений, и придирается больше к правдоподобию, чем к доказательствам: «„Революция“ Тэна, — говорит г-н Сеньобос, — это изображение дуэли, в котором стерли одного из противников, отчего другой стал казаться сумасшедшим» [68], или еще, подхватывает г-н Олар (с. 179, 304), это как описание осады Парижа без пруссаков.
Разумное замечание, я считаю, но приложимое ко многим, кроме Тэна, и которое зависит от предмета, к которому относится, — политической истории революционной демократии. Действительно, эта тема представляет трудности особого рода, что надо учитывать.
Можно сказать, что история режима общественного мнения дает материал для двух видов расследования.
Первое будет заниматься легальным состоянием, признанными принципами, объявленными программами, историей официальной — слово, родившееся вместе с демократией и для ее пользования. Нет более легкого исследования, понятно, почему: тут мы как бы перед сценой, в этаком политическом театре, где все подготовлено, чтобы было хорошо видно и понятно «новому владыке мира», как в 1789 г. называли общественное мнение, и чтобы оно одобрило все это. Цель каждого политического деятеля — заставить себе аплодировать, и его первая забота — показать себя, извлечь больше пользы из взятой на себя роли. Теперь нет ничего удобнее, как описать эту роль, отметить слова и позы персонажа. Вот почему о революции пишет столько
142
людей, не имеющих даже элементарных понятий о специальности историка. Официальная версия демократии в истории — то же, что студийные модели или гипсы в живописи: модель хорошо задрапирована, освещена, вышколена, перед ней любой пришедший может сесть и упражняться. Лишь мастера могут уловить в движении жест, походку и силуэт прохожего, который о них не думает: и поэтому политическая история королевского строя — эпохи, когда еще не царило общественное мнение и источник власти был другой, — гораздо тоньше. Лишь здесь мы в сфере обычной критики, в кругу тем, которые ей соответствуют.
Но есть и третий вид политического исследования, третий род изысканий, еще более трудный: тот, кто работает не с внешней стороной событий, не с официальной историей, но с практикой и с реальной историей демократии. Эта работа выше сил обычной критики, как первый способ был, напротив, ниже ее, по той же причине: речь идет все о театре, построенном перед общественным мнением, но уже о его кулисах, а не о сцене; и как ранее мы видели упорное выставление напоказ, так теперь мы сталкиваемся с упорным молчанием. Только что у нас было слишком много документов — теперь их больше нет. Это естественный результат некоего общего положения дел (никоим образом не заговора), не знаю какой условленной и заклятой тайны. Если хочешь узнать демократическую власть как она есть, а не такой, какой она хочет казаться, то не у нее надо об этом спрашивать; будучи всем обязана общественному мнению, она, естественно, имеет свои тайные средства, жизнь и работу, которые от общественного мнения скрывает, тем более от непосвященных и от противников. В расследовании такого рода
143
не существует постоянных способов, непосредственных источников. Между «братьями и друзьями», которые ничего не говорят, и непосвященными, которые ничего не знают, история сводится к выводам и к догадкам.
И вот чего не увидел Тэн. Конечно, он не такой человек, чтобы удовольствоваться официальной историей, но он счел себя в силах написать другую обычными средствами: выбирая честных гидов и следуя за ними. Но здесь этого уже мало. Когда дело касается истории общественного мнения, честные гиды всегда оказываются несведущими гидами. В работе демократического механизма есть целый разряд фактов, которые по самой своей природе остаются неизвестными хроникерам и скрытыми от искушенных подозревающих [69].
Взгляните лучше на свидетелей Тэна, на всех этих интендантов, комендантов провинций, епископов, нотаблей всех степеней; они присутствуют при Революции, они в ней ничего не понимают. Они отмечают факты, а движущие силы, средства ускользают от их глаз. Послушать их, так причина беспорядков — «возбуждение», творец их — «народ», цель — «всеобщее разрушение». Тэн вслед за ними будет говорить о «стихийной анархии», и это то же самое, что признаться в неведении. Из подобных источников можно составить хорошую фактическую историю, показав внешние действия демократии и их результаты, но ничего сверх этого. Несмотря на большое количество свидетелей и на точность деталей, эта история, такая точная материально, является
144
загадкой идейно, и критика г-на Олара остается справедливой.
Она, как видно, зависит от общих причин: тогда нет ничего удивительного ни в том, что г-н Олар не первый пишет такую критику, ни в том, что Тэн не один дает к этому повод. За десять лет до «Происхождения современной Франции» Кине уже жалуется на авторов, придающих Революции вид сражения без вражеской армии: «Представьте себе в открытом поле одну армию, которая бросалась бы с яростью на облака пыли; сколько трупов будет после этой схватки! Это как помешательство Аякса» [70]. Это та же мысль и даже тот же образ, что у г-на Олара. Она приложима, действительно, к целому классу историков, от которых Тэн, в итоге, воспринял в большом масштабе метод и чьи произведения он резюмировал, — это класс историков фактов, историков-эмпириков, если можно так сказать, таких как Созэ, Мортимер-Терно, позже Виктор Пьер, Сиу, и за ними множество провинциальных эрудитов, людей ученых и любящих точность, немного робких, которые прежде всего доискиваются материальной правды, не беспокоясь о правдоподобии общей картины. С ними дело обстоит так же, как и с очевидцами того времени. Они добросовестно изучали, честно рассказывали. Но они не поняли.
Таким образом, Тэн не один в этом повинен. И тем не менее только на него и должны были напасть, и вот почему: как и историки широкого обзора школы Мишле, он охватывает Революцию в целом, рассматривает революционный феномен как он есть и в то же время собирает факты, источники,
145
называет, считает и цитирует, как и историки-эмпирики, — это колоссальная работа, и он первый попытался ее осуществить. Поэтому естественно, что это чудовище предстало ему в новом обличье. Он первый видел его целиком и в то же время отчетливо, ясно, взором, не затуманенным ни незнанием, ни снисходительностью, видел его в неожиданных формах, в странных размерах, не поддающихся философской истории и выходящих за рамки местной истории. Он первый раскопал в архивных завалах и монографиях и извлек на свет тайну того времени: я имею в виду появление, победу и царствование якобинской нации (или «философской», «санкюлотской», «патриотической» — неважно, какое имя носит этот «политический народ», по его удачному выражению). Это нация, которая не есть ни заговор, ни партия, ни элита, ни большинство, ни даже, собственно говоря, секта: в противном случае где же ее вера? Этот народ как раз заявляет, что обойдется без нее, и каждые полгода меняет своих верховных жрецов и свои догмы.