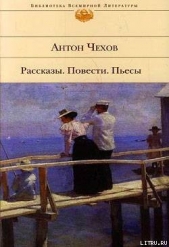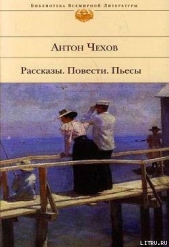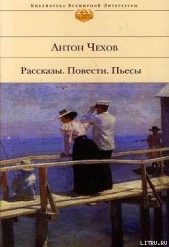Поэтика Чехова

Поэтика Чехова читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека»(«Анна на шее». — «Русские ведомости», 1895, 22 октября, № 292).
«Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество…» («Душечка». — «Семья», 1899, № 1).
«Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства,уже пожилую, но красивую, видную» («В овраге»).
«Когда-то еще в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела,и на всю жизнь у нее в душе остался страх» («В овраге»).
Дело здесь не только в том, что повествование отрывается от стиля одного героя и на него ложатся отсветы стиля персонажей многих. Главное в том, что это не прямое цитирование, как ранее, а полная ассимиляция чужих понятий и слов.
Слово подбирается не по признаку индивидуальной принадлежности данному персонажу, а по принципу тематического и общестилистического соответствия изображаемой среде. Такая фразеология образует лишь тонкий стилистический налет, некий едва ощутимый колорит иного стиля.
Сходные процессы происходили и в сфере синтаксиса. Прежде план героя здесь создавался непосредственным использованием его экспрессии — включением вопросительных, восклицательных предложений — превращением текста в несобственно-прямую речь.
Теперь, в 1895–1904 гг., кроме прежних способов, применяется новый — особым образом организуется речь повествователя.
«Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку <…>. Оба молчали. <…> Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков» («Дама с собачкой». — «Русская мысль». 1899, № 12).
Описание дано полностью в формах языка повествователя и нигде не переходит в несобственно-прямую речь. Но на это объективное воспроизведение событий как бы накладывается отпечаток эмоционального состояния героев. Он заключается в прерывистости синтаксиса, в особом, «задыхающемся», ритме фраз, сообщающем авторскому повествованию настроение героев. Это более тонкий стилистический прием, чем непосредственное включение в повествование экспрессивных форм синтаксиса персонажей. Еще несколько примеров из рассказов конца 90-х — начала 900-х годов:
«Она танцовала с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком» («Анна на шее»).
«Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку» («Дама с собачкой»).
«… сил не хватало, не было соображения, как идти, месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка <…> Липа шла быстро, потеряла с головы платок…» («В овраге»).
Прежний прием, сохранив свою внутреннюю суть, преобразовался под влиянием новой тенденции — возросшей роли повествователя в структуре повествования 1895–1904 гг.
4
Говоря о таких способах передачи чужого высказывания, при которых оно включается в передающую речь не в своем нетронутом виде, а в переоформленном (так что сохраняется только смысл, «тема» высказывания), Б. Волошинов отмечал, что широкое распространение эти «тематические» способы могут получить лишь в тексте, где автор (по нашей терминологии — повествователь) активен, где он «своими словами сам, от своего лица, занимает какую-то смысловую позицию» [52].
Действительно, развитие новых, тематических модификаций косвенной речи в третий период (см. гл. III, 1) оказалось тесно связанным с изменением позиции и всего облика повествователя.
Повествователь второго периода был нейтрален, он не выражал какой-либо своей точки зрения (предоставляя это героям). В его речи не было эмоционально-оценочных слов.
В третий период повествователь уже другой. Время от времени он выступает со своими оценками.
«… на дворе в грязи все еще валялись громадные, жирные свиньи, розовые, отвратительные»(«Убийство»),
«… бедныйПетр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить» («Анна на шее)».
«Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки,И в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные,как сами чиновницы («Анна на шее»).
«Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире»(«На святках». — «Петербургская газета», 1900, 1 января, № 1).
В текст свободно входят эмоционально окрашенные высказывания повествователя — восклицания, вопросы. Они вторгаются в повествовательные отрезки, данные в «геройном» аспекте, разрушая его. То, что во второй период было редким исключением («Для чего?» в «Попрыгунье» — см. гл. II, 7), становится явлением обычным.
«Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! <…> За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?»(«Душечка»).
«Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это насеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле?» («Архиерей». — «Журнал для всех», 1902, № 4).
Главными показателями объективного повествования второго периода были 1) нейтральный повествователь и 2) преобладание в повествовании голоса героя.
Теперь голоса героев теснятся речью повествователя, а сам повествователь перестает быть нейтральным.
Таким образом, можно говорить об отходе Чехова в последнее десятилетие от прежней предельно «безавторской» объективной манеры.
Это было замечено некоторыми критиками-современниками. «В этих рассказах, — писал А. Измайлов после появления «Крыжовника» и «О любви», — г. Чехов уже не тот объективист-художник <…>, каким он представлялся ранее; от прежнего бесстрастия, вызывавшего зачастую обличения в безидейности, не осталось и следа. Всюду за фигурою рассказчика виден субъективист автор, болезненно-тонко чувствующий жизненную нескладицу и не имеющий силы не высказаться. <…> Нам кажется, что в душе г. Чехова начинается тот перелом, который в свое время пережили многие из наших больших писателей, от Гоголя, Достоевского и Лескова до ныне здравствующего Л. Толстого <…>. Художественные задачи отходят на задний план, и ум устремляется к решению вопросов этики и религии. Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта. Этим объясняется и то, почему, — иногда не совсем кстати, — г. Чехов высказывает среди рассказа устами рассказчика или непосредственно от себя свое собственное чувство возмущения или печали» [53].
«Замечается и еще одна особенность, — писал в это же время другой критик, — совершенно новая для Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его упрекали в равнодушии и беспринципности. Теперь же <…> Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды, как, например, заключение рассказа «Человек в футляре» — тирада Ивана Иваныча о невозможности жить так дольше или патетическое воззвание к добру в рассказе «Крыжовник». (В последнем примере имеются в виду слова рассказчика. — Ал. Ч.)<…> Он не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем <…> В нем <…> прорывается нечто сближающее ого с другими нашими великими художниками, которые никогда не могли удержаться на чисто объективном творчестве и кончали проповедью <…> Мы вполне уверены, что огромный талант Чехова удержит его в должных границах, и некоторая доля субъективности только углубит содержание его творчества» [54].