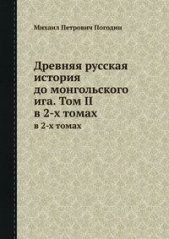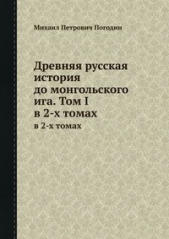Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так, по мнению ученого, функционируют архаические общества. Он, правда, уточняет, что нечто подобное происходит и в обществе, лишенном «прочной юридической системы» — то есть, например, в обществе во время и после революции.
Но в «Терроризме» обеспечиваемая насилием связь между социальными акторами не сводится лишь к их взаимной мимикрии — она порождает самих этих акторов. Прежде всего мимикрия в пьесе циклична: каждый персонаж выступает то в роли жертвы, то в роли источника насилия; и как тот, кто страдает, и как тот, кто наслаждается чужой болью. Даже бабка-отравительница — и та, похоже, натерпелась от своего мужа: «…у тебя зять — бандит, а у меня муж — еще хуже был! — поясняет она. — Этот хороший мне всю жизнь испортил, я только год этот по-человечески жить стала!» (с. 281).
Цикличность насилия не поддается реалистической интерпретации: чемоданы, оставленные Пассажиром, уже стоят на взлетной полосе, когда он в первый раз приходит в аэропорт и, вероятно, еще не знает об измене жены. Шипение в конце сцены с любовниками явно указывает на газ, пущенный Пассажиром, — но Пассажир еще не приходил… Это сюрреалистическое качество связи через насилие яснее всего видно в последней, шестой, сцене, где Пассажир вновь оказывается в аэропорту и даже в самолете — правда, летит ли этот самолет или стоит, и вообще на том или на этом свете находятся пассажиры и стюардессы, остается неясным.
Пресняковым эта сцена, по-моему, не удалась, ей не хватает действия, она слишком риторична. Хотя по смыслу она напоминает финал «Бойцовского клуба» (1999), фильма Дэвида Финчера по роману Чака Поланика. И в романе, и в фильме также описана связь между людьми, основанная на прямом физическом насилии — правда, у Поланика и Финчера насилие представлено скорее как особого рода эзотерическая психотерапия, перерастающая в квазирелигиозный культ, чем как органическая социальная норма. Но и в произведениях американских писателя и режиссера логичным итогом организации этой связи оказывается взрыв, маркирующий неразличимость жизни и смерти, внешнего и внутреннего. Так, в романе Поланика герой оказывается в психиатрической лечебнице, которую принимает за рай, — это та же неразличимость, что и у Пресняковых, только в других категориях. Сходство это убеждает в том, что зафиксированные Пресняковыми парадоксы насилия характерны не только для постсоветского, но и для пост-модерного опыта в целом.
Возникающий и у Поланика/Финчера, и у Пресняковых сдвиг во вполне, казалось бы, детерминистской мимикрии насилия указывает на двусмысленно-противоречивую роль насилия в постмодерном «обществе спектакля». С одной стороны, только ощущение боли — своей или чужой, неважно, — боли, причиняемой насилием, способно прорвать онемелость «гиперреальности симулякров», о которой так впечатляюще говорит Мужчина во второй сцене «Терроризма»; в фильме Финчера этому состоянию соответствует бессонница главного героя, из-за которой ему все кажется «копией копии копии». Не случайно Женщина во втором действии «Терроризма» предлагает любовнику вести себя так, как будто он ее насилует. Банальный, в общем, ход — но партнер неожиданно увлекается:
Мужчина. Настоящее насилие. Я говорил, что настоящее насилие будет поинтересней, — я тебя не развяжу! А это не мог быть он [муж]?
Женщина. Он, она — какая разница. Меня — нет!
Мужчина
(устраивается на кровати, ест).Женщина. Тебя тем более! Что ты будешь делать, когда доешь?
Мужчина. Посплю.
Женщина. А я?
Мужчина. А ты как хочешь, но я тебя сейчас не развяжу. Я посплю, отдохну и опять займусь с тобой любовью!
Женщина. Это как-то ты изощренно все придумал, как-то слишком!
Мужчина. Тебе не нравится?
Женщина. Нет!
Мужчина. Отлично! Теперь все будет по-настоящему. Без всяких там. Тебя это возбуждает?
«Меня здесь нет», и только насилие делает «мое» присутствие заметным: именно оно оставляет реальный след — такова логика Мужчины. Тем не менее перед нами, конечно же — не чистая манифестация насилия, а разыгрывающий насилие спектакль, особого рода перформанс.
Аналогичный смысл приобретают действия героев и в других сценах «Терроризма», и в других пьесах Пресняковых. Перформанс насилия (или театрализованная демонстрация готовности к насилию) выступает в качестве универсального симулякра: он замещает профессиональную этику, желание свободы, любовь, чувство национального или какого-либо иного превосходства, наконец, просто витальность. Почему пожарники издеваются над своим коллегой? Нипочему, просто так:
4-й. Что вам от меня надо?! Почему вы все время ко мне пристаете?..
(Плачет.)2-й. Потому что ты пельмень!
1-й. Равиоли!
2-й. Ты уши свои видел?
1-й. У тебя папа слон был? Мама в зоопарке слишком близко к клетке подошла, да? А потом ты родился!
2-й. Элефант!
3-й. Ладно, отстаньте от него! Пусть одевается и валит, он стонет так, я не могу уже!
2-й снова стегает 4-го полотенцем, тот прижимается к шкафу, молчит.2-й. Ну-ка, — постони! Постони!
Итак, спектакль насилия функционирует как универсальный симулякр коммуникации, способный заменить практически все — и любовь (сцена 2), и ненависть, и семейные (сцена 4), и профессиональные отношения (сцены 2 и 5) [1184]. Но несомненное преимущество перформанса насилия перед другими симулякрами и социальными спектаклями (и происходящая из этого преимущества безусловная гарантия доминирования этого перформанса среди иных общественных практик) состоит в том, что, в отличие от всех прочих — идеологических, коммерческих, политических — симулякров, спектакль насилия оставляет максимально осязаемые, максимально реальные следы: боль, разрушение, смерть.
2-й пожарник демонстрирует своему боссу коллекцию фотографий с пожаров — оторванные конечности, изувеченные тела, знаки боли — это кажется ему интересным, «прикольным», вызывает острые ощущения. Но босс поумнее своего туповатого подчиненного. Он проницательно говорит о сходстве зрелища (спектакля) насилия с универсальным означающим трансцендентного — красотой: «Да! Посмотри, как красиво! (Берет у 1-го фото.) А?! Не было бы красиво, ты бы не стал фотографировать! Вот так! Поглядит кто-то на эти картинки, и не ужас в них увидит, а красоту!» (с. 292) [1185]. Офицер-пожарник, несмотря на свой пафос, в общем, не так уж далек от Ги Дебора: «Спектакль не стремится ни к чему иному, кроме себя самого… Он является собственным продуктом и сам учреждает собственные правила: он — псевдо-сакральное…» [1186].
Отступление. О насилии и священном в советской культуре
Судя по «Терроризму», в русском «обществе спектакля» восторжествовала сугубо авангардная эстетика — вслед за Антоненом Арто ее можно было бы назвать «театром жестокости», если бы Арто не вкладывал в эту категорию свойственную сюрреалистам надежду на прорыв через бессознательное к трансцендентному. Однако у Пресняковых отношение между насилием и трансцендентным — совсем иное, оно вырастает не изавангардной традиции, а из советского опыта. Дело не только в том, что авторы принадлежат к последнему советскому поколению, но и в том, что травма, оставленная этим опытом, еще долго будет отзываться в культуре и истории.
Советская социальная агрессия реализуется не только как «Большой», масштабный террор, сколько — и даже в первую очередь — как «малое» насилие (по выражению Т. Толстой), то есть повседневный, ежеминутный, коммунальный, магазинный, служебный и домашний террор против всех. «Большому» террору — впрочем, не без натяжек — можно найти параллели в «rechtssetzende Gewalt», революционном правоустанавливающем акте насилия, и в «rechtsderhaltende Gewalt», правоохранительном насилии, — эти две разновидности Вальтер Беньямин обсуждает в упоминавшемся выше трактате «Критика насилия» (1920–1921), но «малый», будничный и обыкновенный террор этими категориями никак не объяснить.