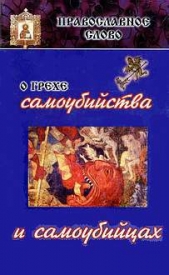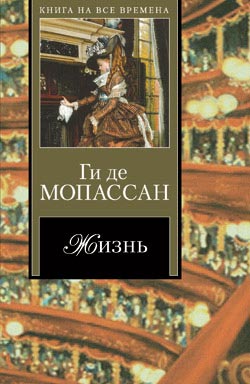Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали

Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали читать книгу онлайн
Эта книга — серия портретов писателей советской поры: Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Александра Фадеева и Юрия Олеши, Сергея Михалкова и Александра Твардовского, Валентина Катаева и Николая Эрдмана. Портреты — разные: есть обстоятельно писанные маслом, есть летучие графические зарисовки, есть и то, что можно счесть шаржем. И в то же время это — коллективный портрет, чьи черты дают представление о некоем общем явлении, именуемом «советский писатель». Или — «советский интеллигент». В книге рассмотрены сугубо отдельные, индивидуальные судьбы. И в то же время — судьба, общая для многих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«…Слопала…» «…Убило отсутствие воздуха», — как корректнее сказано Блоком в речи о Пушкине. Вот, однако, вопрос: а сами чушкины «поросята» — не участвуют ли в решении своей участи? Состояние собственных легких и забота об их здоровье — неужто не влияют на то, надолго ли хватит пресловутого воздуха, как бы он ни был сперт?
скажет Гумилев, у которого, впрочем, это право насильственно отняли. Да и о цветаевском выборе приходится говорить все же условно: слишком могущественны были силы и обстоятельства, толкавшие ее в петлю. А Блок?
Да, конечно, и тут — лишения, общие для многих и многих, но не о них же речь. И его выбор… Как сказать? Он не то чтоб сознательный, ибо речь о таинственной работе души, но — органический. Волевой. Своевольный. Здесь — энергия саморазрушения, сáмо, глубоко и резко индивидуальная. Это в «первой реальности», в жизни, обычно разнятся творцы, созидатели, в то время как разрушители все более или менее на одно лицо, — потому что само разрушение есть процесс примитивный.
В искусстве иначе, что подтвердит продолжение разговора.
А был ли Дантес?
Между прочим, описание дома в Куоккала, где похозяйничали собратья и прототипы «двенадцати», — это финал очерка Юрия Анненкова о Сергее Есенине. И вряд ли причина этого только в простейшей привязке: «Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи…»
Что говорить, «разинщина», «пугачевщина» жили и в есенинской душе, — имею в виду не только трагедию «Пугачев» и даже совсем не ее. В конце концов, и Пушкин, ужаснувшись вместе с Гриневым русскому бунту, самого Емельку опоэтизировал. Нет. «Грубое разрушение не материального только, а святынь жизни» (слова памятного нам Эртеля, для которого, как и для передавшего их Бунина, это было синонимом революции) соблазняло и Есенина.
Конечно, он не звал, подобно Маяковскому, «тенькать» пулями «по стенкам музеев». Не спрашивал, почему, расстреливая белогвардейцев, забывают об их духовных пособниках: «А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы?» Либо: «А почему не атакован Пушкин?» Растрелли и Рафаэль в поле есенинского зрения (так и хочется скаламбурить: в крестьянское, русское поле) не попадали. На Пушкина он не замахивался, и если Маяковский, сменив агрессию по отношению к камер-юнкеру на снисходительность, соглашался уступить ему часть своей пропагандной работы: «Я бы и агитки вам доверить мог», то Есенин, наоборот, изъявлял готовность умереть от счастья, когда бы судьба уподобила его Пушкину.
Вместе с тем в бунтарском раже он метил куда более высоко — в самом буквальном смысле, намереваясь перекрыть достижение пулеметчика Матвея Глушкова («2 арш. 12 верш.»). Грозился «из окошка луну обоссать».
Маяковскому, настолько равнодушному к Богу, что о кощунстве и тем более о богоборчестве говорить несерьезно, достаточно было небрежно бросить: «А с неба смотрела какая-то дрянь…» Крестьянин Есенин посягал на то, что для него по воспитанию и природе было действительными «святынями жизни», — оттого посягательства отчаянны и истеричны. Так топчут лишь то, что тебе дорого, что приходится с кровью отрывать от души (как Блок отрывал от себя Иисуса): «Тело, Христово тело, выплевываю изо рта… Что нам слюна иконная в наши ворота в высь?»
Это — наперекор совсем иному: «Гой ты, Русь моя родная, хаты — в ризах образа…» Или просьба, чтоб положили «в русской рубашке под иконами умирать». Даты под стихотворениями разные, но душа — единая. И по-своему цельная в том раздрае, где образ пьяницы, скандалиста не просто сменяет образ инока, но перемежается… Нет, даже совмещается с ним.
Как известно, вскоре после смерти Есенина Маяковский написал стихи-реквием или, скорее, стихи-спор. И не сама по себе смерть оказалась толчком к созданию стихотворения «Сергею Есенину», но — общественная реакция, если этим холодным словом можно назвать не только некрологи, а и череду, почти эпидемию самоубийств, последовавшую за уходом любимого поэта. Подхватившую его прощальный призыв: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».
«С этим стихом, — рассудил Маяковский, — можно и надо бороться стихом и только стихом». Так возник полемический парафраз есенинского прощания: «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней».
Нужно быть бессовестным сукиным сыном, чтобы хихикнуть по тому поводу, что всего через четыре года после этой отповеди сам полемист покончит с собой. Тем не менее оба они, соперничавшие при жизни, оказались и в смерти своей в положении категорически разном, — говорю о той же реакции. Не властей, не прессы, а тех, кого снисходительно называют улицей.
Общепамятно предсмертное письмо Маяковского. Трагический документ государственного человека, который свое прощание открывает громогласным обращением: «Всем!» (чему, помнится, по опыту и инстинкту не доверял эрдмановский Подсекальников, как раз человек улицы, человек из народа).
Оправдывается перед Российской ассоциацией пролетарских писателей, РАПП, в чьи ряды, в ту пору главенствующие, вступил, удостоверив свою лояльность к власти. Спорит с ничтожным Ермиловым, который всего-то (тьфу, Господи!) добился снятия направленного против него лозунга к спектаклю «Баня». И насколько ж — ну, скажем, интимнее, проще, общепонятней уход Есенина с романсовой надрывностью строк: «До свиданья, друг мой, до свиданья… Но и жить, конечно, не новей».
В этих немудреных сентенциях, в этой трогательной банальности, в этом никогда не оставлявшем Есенина желании выглядеть перед улицей и ее поэтом тоже — своего рода неуступчивость. Независимость — да, да, при его-то всегдашнем желании нравиться (лучше бы — сразу всем).
Замечательно, что та же улица вдруг напомнила Маяковскому, что и он — поэт, как бы старательно ни притворялся чем-то иным. Вплоть до такого: «Мне наплевать, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее — Советскому правительству и партии». Как бы ни наступал подкованной заграничной подошвой на хрупкое горло своей лирической музы.
Его письмо запели нищие и беспризорные в поездах, поняв, услыхав его по-своему:
Кáк там было в предсмертном послании «Всем!»?
«Товарищ правительство! Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты обеспечишь им сносную жизнь — спасибо».
И вот деловитые строчки, указывающие на заслуги покойного, достойные правительственного пенсиона его семье, вернее, трем семьям, — эти строчки в устах поездного певца преображают эмансипированную Лилю Юрьевну Брик в вечный символ женского целомудрия, в лилию. А обращение к властям звучит мольбой, которая, с точки зрения подсекальниковых, выражает наиболее понятную форму их отношения с государством: пожалей!
А Есенин… Его прощальный привет стал песней мгновенно, не потребовав переделки, разве что обрастая — с легкой руки Вертинского, по мановению его длинных пальцев — новыми строчками: «До свиданья, друг мой, догорели свечи…» и т. п. Есенин как был, так и остался своим. Плотью от плоти народа. Духом от духа. И поскольку это именно так, то как, казалось бы, не понять тех, кто время от времени воскрешает версию не самоубийства, а — убийства? Будто Есенину помогли умереть враги народа — те или иные, в зависимости от того, кто эту версию выдвигает.
Тем более, сколько б мы у него ни находили строк, пророчащих гибель, он так не хотел умирать! Он даже в оппозицию не стремился, заявляя: «Приемлю все. Как есть все принимаю. Готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю…» — и испрашивал для себя, кажется, самую малость независимости: «…Но только лиры милой не отдам».