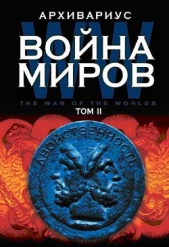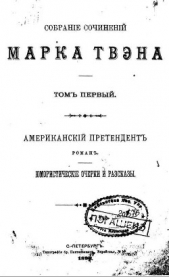Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
[неточная цитата из первой строфы стихотворения В.Брюсова “Ассаргадон” (“Ассирийская надпись”) (1897); в оригинале: “Я — вождь земных царей и царь Ассаргадон. / Владыки и вожди, вам говорю я: горе!”]
и больше всего само это имя— Ас-сар-га-дон. Со свирепой энергией отчеканивал я его слог за слогом… (пишу и вдруг вспомнил из “Роланда”: “И гости вдоволь пили, ели, / И лица их от вин горели”; уверен, что и на “их” ставил я ударение). О ямб, велики твои соблазны! Но ведь Пушкин, и не он один, с легкостью их избегал, да и не все ли равно, как мальчонок, выползший из-под стола, или юнец, только что отнесший переплести Бодлера в змеиную кожу, читал стихи? Ассбр– гадόн? Ничего. Имя все-таки хорошее. И Пушкин такими не пренебрегал.
Именам собственным присуще устройство смысла, которого не являют никакие другие элементы языка. Недаром хранят их в засушенном виде энциклопедии, а не словари. Поэты оживляют и их, нередко с особым удовольствием. Перечисляют с дюжину порой, как уже Дмитриев, Иван Иваныч, лучший наш стихотворец между Державиным и Жуковским, дважды в том же стихотворении [возможно, речь идет о стихотворении И. И. Дмитриева “Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия” (1808)], а затем Пушкин в “Онегине”, по образцу Байрона, с усмешкой перечислившего в двух, одна за другой, октавах “Дон Жуана” сперва британских военачальников и моряков, потом французских – Бог знает как произнося их имена — революционеров и генералов. Но усмешка тут не обязательна. Тынянов правильно, хоть и нескладной терминологией пользуясь (“Проблема стихотворного языка”, 1924), указал, что в словах с ослабленным или отсутствующим “основным признаком значения” особенно ярко выступает их лексическая окраска (слова “дондеже”, например, непонятного деревенским бабам в чеховском рассказе “Мужики”), как и другие “второстепенные” или “колеблющиеся” “признаки значения”, в том числе и те недостаточно учтенные Тыняновым — совсем зыбкие, но весьма действенные все же,— что неотделимы от звучания иных экзотических (вспомним Флоренского), гротескных или попросту непривычных собственных имен. Основного признака у собственных имен, как опять-таки совершенно правильно говорит Тынянов, вовсе и нет; или, как вразумительнее будет сказать, у них нет смысла, есть только предметное значение. В слове “Шекспир” понимать нечего; разве что, зная английские слова “потрясать” и “копье”, я пониманием назову раскрытие его “внутренней формы”, которая с Шекспиром ничего общего не имеет. Имя его мне следует знать, а не понимать (значения знают, смыслы понимают), и если я знаю, что зовется так автор “Гамлета” и “Лира”, то в крайнем случае могу назвать его и Шапиро, как один рабфаковец, полвека назад, назвал его на экзамене. “Копье” или “потрясать” — другое дело. Нужно и любое слово знать, чтобы его понять, но при понимании я открываю в самом слове все оттенки его смысла, тогда как все, что я узнаю о Шекспире и научаюсь понимать в его творениях, не из имени его я извлекаю, а лишь озаглавливаю этим именем. Порой оно становится заглавием целой книги, но поэту книга не нужна; почему бы не поживиться ему одним заглавием? Едва ли и Брюсов намного лучше, чем я, был знаком с историей древнего Востока, когда пленился и меня пленил грозным именем Ассаргадон.
Грозным и царственным? Да. И, что важно, уже по звуку. У имени не просто “лексическая окраска”, как у любого слова: у него звук, необычный звук, и мир, откуда, для нас, этот звук звучит. “Мудрец мучительный Шакеспеар” [первая строка из одноименного стихотворения Ф. Сологуба], — хорошо выдумал первый стих Сологуб: сказочным сделал историческое имя. А в Рущуке вы бывали? Известно вам что-нибудь насчет Тульчи? Прислушайтесь:
[здесь и далее цитаты из наброска А. С. Пушкина “Юдифь” (1836)]
или:
и оттуда же, из того же наброска “Юдифи”:
Звучание этих имен (все равно, имена ли это мест или людей) переносит нас в стамбуло-янычарский, в библейско-вавилонский мир, и каждый раз поддержано оно в этом деле соседними звучаниями: “удар” (в конце предыдущего стиха) и “стар” для “Смирны”, да и рифмой к ней — “жирный”; подобно тому как, во втором случае, “белеясь” готовит “Ветилую” (вместе с двумя у в предшествующих строках), а “сынов” служит прелюдией к “Аммону”; “Рущук” же и “Трапезунд” сами за себя говорят, как еще ярче “Ахиор”, который отлично мог бы обойтись без “Олоферна” в следующей строчке. Предыдущее слово “военачальник” подготовляет нас, быть может, к его первой гласной, но ни к одной из его согласных;их в первом слове нет: оно — контраст к “Ахиору”, а не созвучие ему.
Как обрадовало, должно быть, Пушкина это имя, подаренное ему книгою “Юдифь”! Звуком обрадовало, но и характерностью, конечно, а характерность звука (его тембра) — уже не звук, раз она относит нас к представлениям, связанным с поименованным этим звуком лицом или местом. Но если, например, Олоферн или Стамбул немедленно воскрешают в нас то, что нам о них известно, и если клубок таких воспоминаний огромным и запутаннейшим становится, когда нам скажут “Рим” или “Наполеон”, то ведь, когда мы слышим “Ветилуя”, “Ахиор” или, не побывав в Трапезунде и его истории не зная, “Трапезунд”, — никакого особенного наплыва мыслей мы не почувствуем. Тут будет достаточно очень мало определенной, но именно потому и стимулирующей воображение смысловой туманности. Тем более драгоценной для поэта, что Ветилую и Ахиора другим именем не назовешь (как можно Наполеона назвать Бонапартом, Рим — вечным городом, а Стамбул — Константинополем или Истанбулом), вследствие чего звук со своим малым смыслом сливается крепче и полней. Можно и выдумать такое имя, пусть и представив его невыдуманным, как это сделал Гюго в одном из чудеснейших стихотворений — и своих, и всей французской поэзии,— “Уснувший Вооз”, соединив Иерусалим (по-французски “Жерюзалем”) с Генисаретом (“Женизарет”), из чего получился очень убедительный для французского уха “Жеримадет” (в рифме выговариваемый “Жеримаде”). Изобретение это поэтически вполне законно и естественно. Совершенно неосновательно видели в нем выдающиеся французские критики какую-то вольность, игривость и даже вольнодумную иронию.
“Слова, — пишет Пруст,— дают нам отчетливое и общепонятное изображение вещей, подобное тем, какие развешивают на школьных стенах, показывая детям образчики того, что такое станок, птица, муравейник, — предметы мыслимые похожими на все прочие того же рода. Но имена рисуют нам смутный образ людей или городов, приучая Нас видеть и их неповторимо индивидуально; из своего звучания, яркого или глухого, извлекают краску, которой написана вся картина, как те сплошь синие или красные плакаты, где, по прихоти живописца, синими или красными оказались не только небо и море, но и лодки, церкви, прохожие” [цитата из первой части (“Комбре”) романа М. Пруста “По направлению к Свану” (1913)]. Именно такова и однотонная, но как раз нужного тона (понимаем ли мы “тон” живописно или музыкально) “Ветилуя”; таков “Жеримадет”; такова, для Пруста, не виденная им Парма, о которой у Стендаля он читал и чье имя кажется ему “плотным, гладким, сиреневым и нежным”, — не так уж важно в поэзии, каким именно; важно лишь, чтобы казалось “особенным” и качественно насыщенным и чтобы качество это не противоречило той ткани чувства и мысли, куда имя было автором включено. Это гораздо больше, чем лексическая окраска, одинаковая для Пармы, Мантуи, Пьяченцы, чьи имена, однако, по-разному окрашены для того, кто видел эти города или даже лишь читал о них. Но степень осведомленности о том, что именем названо, если не обратно, то уж, во всяком случае, и не прямо пропорциональна поэтической потенции тех или иных имен. “Москва… как много в этом звуке…” Но ведь не об одних москвичах Пушкин говорит, да и бесконечную разношерстность их знаний и мыслей о Москве тоже не имеет в виду; тремя строчками этими и антимосквич, фанатический сторонник Петербурга будет удовлетворен. Искусство вымысла не отсутствует, конечно, в “Онегине”, но три строчки эти принадлежат искусству слова, материал которого не “вещи”, не все то, к чему относят нас слова, но сами они, их непосредственные смыслы и звукосмыслы, а также и “географические и исторические имена”, у которых одно лишь значение и есть, — недаром они Павлика Флоренского своей бессмыслицей пленяли, — но которым искусство слόва, превращая их в слова, как раз и дарует смысл. Тот самый смысл, который в данном случае ему нужен, и ровно столько смысла, сколько нужно. Остальной или другой мы прибавляем от себя, порой расширяя поэзию, но порой ее и умаляя или упраздняя.