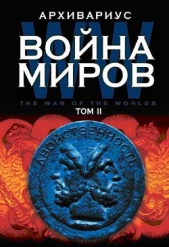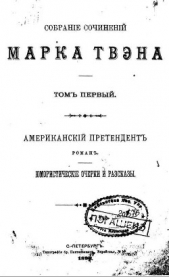Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
[цитата из стихотворения А. С. Пушкина “19 октября” (1825)]
очень немногие могут повторить о себе”, если “дух песен” отождествлять с подлинным стихотворным даром; но если понимать его шире, поэтами были все мы —в младенчестве гораздо более раннем, чем то, которое имел в виду поэт, когда вспоминал не младенческие, презренной прозой говоря, а лицейские, отроческие свои годы. Все мы были поэтами, потому что звучали для нас слова и потому что их смысл, понимавшийся нами порой весьма превратно, то и дело завораживал нас, казался не просто пристегнутым к звуку, аим порожденным, присущим природе этого именно звука, подобно тому как наши собственные (пусть и подсказанные нянюшкой) “ням-ням” и “бо-бо” непосредственно вытекали из несложных наших переживаний или как на зов наш “мама!” всегда появлялась одна и та же наша мама, и ничто на свете не могло призываться и зваться тем же именем. Да и гораздо позже, когда возросла вместимость и стала тем самым улетучиваться конкретность наших и слышимых нами слов, мы все еще не по-взрослому, куда острее и сильней, ощущали их звук и их внутреннюю форму (в метафорических или составных словах), из чего проистекало два рода последствий, друг другу как будто враждебных, но в равной мере приближавших нас к поэзии. Порой настораживал нас голый звук — “гиппопотам” или пленяло образное имя — “анютины глазки”, независимо от предметного значения; порой мы требовали, напротив, чтобы “имя” в точности отвечало “вещи”, как тот немецкий мальчик, который хотел, чтобы купца называли продавцом (феркауфман): “он ведь не покупает, а продает”), или как тот, охрипший, которому давали питье против кашля, хустентее, и который переименовал его в хейзертее (питье против хрипоты). Конечно, первоначальный интерес к “слову, как таковому” может легко перейти к вопросам о том, где Анюта и кто такой гиппопотам; но есть слова, которых никто не объяснит, заумные от рожденья или переставшие по недоразумению быть умными. Если они смыслом и обрастут, то смыслом, чуждым языку, существующим лишь для нас, в нашей речи; в нашей домашней, частновладельческой поэзии.
Жил-был мальчик много лет назад, Левушка Толстой, знавший злое, ужас внушавшее существо по имени Мем оттого, что возглас дьякона, призывавшего слушать священные слова — “Вунмем!”, — он истолковал как окрик “вон!”, обращенный к врагу, нечистому духу, Мему. По вине юного Лермонтова, начавшего волшебное стихотворение — столь волшебное, что шероховатостей его не замечаешь, — строчкой с повтором мнимо-однозначных слогов
[первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова “Ангел” (1831)]
еще намного более юный Мережковский, услышав слова эти, решил, что существует нечто именуемое “луночь”, что ангелы по этой луночи летают, и мог бы на такой основе создать (хоть, кажется, и не создал) целую мифическую космологию. Мифы из превратно истолкованных слов возникали не раз. Афроднта не родилась бы из морской пены, если бы ее финикийское имя, слегка переделанное греками, не было истолковано ими при помощи двух слов их языка, означающих странствование и пену: странницей она стала в пене волн, прежде чем стать пенорожденной. Народы не хуже детей умеют осмыслять слова (но и обессмысливать их), давать им новую выразительность (как и лишать прежней).Юркий“блитц” и впрямь молнией сверкнул, тогда как предок его, древневерхненемецкий глагол “блекхаццен”, блистал немножко мешковато; но и обратные примеры не редки: и многие латинские слова утратили во французском, а то и во всех романских языках не только свой вес, но и свою наглядность. Анонимная работа осмысления дает порою забавные, порой всего лишь благоразумные плоды: мила “мартышка”, получившая своего Мартына из Голландии взамен индийской “маркаты”, которую немцы находчиво превратили в морскую кошку (Мееркатце); они же из карибейского “гамака”, так везде и оставшегося гамаком, сфабриковали с поразительным мастерством сперва какой-то “гангмат”, а из него паиньку примерного поведения — “висячий коврик” (Хенгематте). Поколения работали дружной артелью, — поздравляю; но этого рода народному творчеству предпочитаю, хоть и ему поэзия не чужда, детское, сплошь проникнутое ею. Недаром изрек не детский отнюдь поэт Бодлер: не что иное она (или гений ее), как вновь найденное детство.
Совсем недавно я впервые прочел к этой теме относящиеся удивительные страницы “Воспоминаний детства” о. Павла Флоренского, написанные полвека назад, но опубликованные лишь теперь “самиздатом” в СССР, издательством Студенческого христианского движения в Париже. Будущий философ, математик и высокой культуры гуманист, маленький Павлик, был очень восприимчив к музыке и к стихам, причем и в стихах, по его словам, меньше привлекал его их смысл, чем их ритм и их звучание. “Самым привлекательным, — пишет он, — было для меня явно иррациональное”, то есть ему в то время отчасти или вовсе не понятное. Он особенно любил романс Глинки на слова Пушкина “Я помню чудное мгновенье”, где в четвертом стихе “Как гений чистой красоты” два первых слова сливались для него в одно, так что возникло из них нечто аналогичное “луночи” и “Мему”: “кагйни”, “символ бесконечности красоты”, причем, как он пишет, и тогда уже он отлично понимал, что любое разъяснение могло бы “лишь ослабить энергию этого слова”. Это значит, что — сам того не зная, и не без помощи Глинки — он поэзию возвращал к ее предсуществованью, в тот сумрак, в тот звукосмысловой сумбур, откуда она рождается и который, родившись, покидает, но где все-таки и коренится “гармонии таинственная власть”. О “красоте” уже и недоуслышанный или в слышании музыки утонувший стих Пушкина говорил, но тут, для детского этого чувства, не в ней было дело, да и не совсем о той о. Павел думает, о которой у Пушкина была речь. Он и вообще впадает иногда в эстетико-символистский жаргон, не младенчества своего, но юности. “Символ бесконечности красоты” — это не только из-за родительных падежей, верхом друг на друге, вяло сказано. “Кагйни”, для высокоодаренного и эмоционально взвинченного ребенка, было, конечно, не “средоточием изящества”, как пишет взрослый о. Павел, а загадочным словом, собственным именем, — неизвестно чьим; средоточием всего, чем волновала, чем услаждала его музыка, проникнутая поэзией, или поэзия, обволокнутая музыкой. Но волнение это и усладу он описывает на редкость хорошо:
“С жадностью подхватывал я географические и исторические имена, звучавшие на мой слух музыкально, преимущественно итальянские и испанские (…) и сочетал их, сдабривая известными французскими и итальянскими словами, в полнозвучные стихи, которые привели бы в ужас всех сторонников смысла. Эти стихи приводили меня совершенно определенно в состояние исступления, и я удивляюсь, как родители не останавливали моих радений. Правда, чаще я делал это наедине. Но я любил также, присевши на сундук в полутемной маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести — сперва нечто вроде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушевясь, начать этого рода мелодекламацию и, наконец, в полном самозабвении, перейти к глоссолалии с чувством уверенности, что самый звук, мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изящному экзотическому миру и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купания, но обессиленный бывшим подъемом. Звуки опьяняли меня”.
Забудем об экзотике и об “изысканно-изящном”. Уже в начале этого отрывка заменил я многоточием слова о том, что итальянские и испанские имена казались мальчику особенно изящными и изысканными; плохие это слова, хоть я в точности воспоминаний о. Павла и не сомневаюсь. “Изысканно” отчего бы и не одеваться, “экзотикой”, отчего бы и не пощеголять; но мальчика чуждое и чужое, непонятное и полупонятное чище и глубже увлекало; и глоссолалия его была о высоком, превыше не только эстетизма, но и эстетики; о высоком, но не допускающем пересказа даже и подлинно высокими словами. Из рассказа об этом ребенке того замечательного человека, которым он стал, это совершенно ясно. Замечателен и рассказ: он рассказанного почти не искажает. Не всякий сумел бы даже и столь отчетливо вспомнить, — если бы у него и было что, в этом роде, вспоминать. Несомненно, однако, что детская мусикия, и довольно сложная, и попроще, — явление весьма распространенное. Мне говорили, что от роду лет шести я любил ходить вокруг стола и, немилосердно скандируя, читать наизусть (с голоса, скорей всего, выученного) “Роланда оруженосца” Уланда-Жуковского. “Звуки опьяняли меня”. Вероятно, я могу и о себе это сказать; а если (как оно и есть) не нужно для этого целой баллады и длительного бубненья, достаточно двух строчек, одной, — а то и слова одного; тогда и наверняка могу я сказать это о себе, лет на шесть или семь подросшем. К стыду моему, “адски” мне нравилось в то время у Брюсова