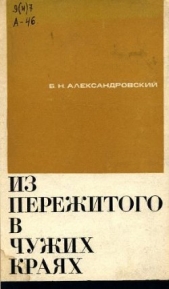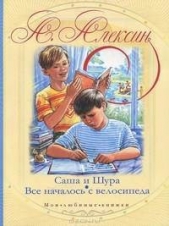Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии

Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии читать книгу онлайн
В итоговой книге Анатолия Андреевича Бухарина (1936–2010) – литератора, историка, исследователя традиций отечественного либерализма, пушкиниста, яркого человека непростой судьбы – представлены разножанровые произведения (эссе, очерки, рассказы, воспоминания и т.?д.), написанные в последние полтора десятилетия и объединенные неповторимой авторской интонацией. Это своего рода «страстные размышления», «взволнованные думы», отражающие итоги постижения нашим современником сложных перипетий отечественной истории и культуры.
Уникальное единство художественного и исторического контекстов, естественное для Бухарина-мыслителя, делает книгу заметным явлением современной русской прозы и историографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Звякнула щеколда. Опять гости?
Нет, это зеленоглазая соседка – за солью.
В Афанасии просыпается бывший лейб-гвардеец. Весь засветившись изнутри, он подбоченивается и декламирует высоким речитативом:
Зеленоглазая не остается в долгу:
Но и дядя не сдается:
Соседка смеется: «А ну тебя к лешему!» – и выбегает в сени.
Дядя бросает вслед:
– Царь-баба! – и тут же забывает о ней, захваченный в плен песенной стихией.
Начинает он с любимой «Коробушки». Мать подхватывает, и под низким сводом вдовьей избы шумит, волнуется высокая рожь, ноют сладкие воспоминания о далекой молодости.
За «Коробушкой» следует песня отца – «Ожидание»:
Мать, сдерживая рыдания, подтягивает, и они, словно два листочка с одной березы, дуэтом продолжают старинный казачий напев:
Поют, выплескивая боль и горечь пережитого.
Отведя душу, долго пьют чай и говорят, говорят…
Она родилась в конце прошлого века, он – в начале нового. Было о чем вспомнить: и о нагой бабе в крапиве, и о тех, что сразу на всех зверей походили, и о тех, чьи светлые души давно отлетели.
Глядела в окно мартовская ночь. Наш маленький праздник закончился.
Самым веселым человеком в нашей большой, ветвистой родне был Павел Иванович Угрюмов. Он вошел в мою жизнь в сорок пятом.
Десятого июня, чуть свет, в окошко постучали.
Мать глянула и ойкнула:
– Павел!
Это вернулся с фронта муж ее родной сестры Анастасии.
По-разному возвращались после Победы. Что греха таить: кому война, а кому мать родна. Одни везли трофеи вагонами, другие тащили тяжелые немецкие чемоданы, набитые часами, иголками, мылом, шелком, а этот (и таких было большинство), потирая воспаленные глаза и седую щетину, стоял в обгоревшей шинели, в стоптанных кирзовых сапогах, с трехрядкой на плече и радостно взывал:
– Дуня, открывай!
Когда же в сени – на шум – с криками ворвалась большая семья, он, смутившись, достал из кармана горсть облепленных махоркой леденцов и молча протянул детям.
Давно старые стены не видели, не слышали такого веселья. Заливалась гармошка, от дроби деревянных танкеток ходуном ходила изба.
А в ответ из-за порога неслось:
У-ух! Раздайся, грязь, – навоз ползет!
Кружились, смеялись и кричали, кричали:
– Вернулся! Вернулся! Вернулся!
Ах, русский человек! Семь бед – один ответ. Как будто и не было войны, как будто не сворачивался солдат «из кулька в рогожку». Сидит он, хмельной, играет, и летят во все стороны синие брызги глаз…
Не знаю, что сказал бы Твардовский, погляди он на Павла Ивановича, но то, что это был один из прототипов Василия Теркина, – сомнений у меня сегодня нет. В пехоте, в обнимку с гармошкой, дошел до Кенигсберга и расписался на стене средневекового замка.
Правда, о войне не любил рассказывать. Бывало, попросят, а он сердито отбоярится:
– А что рассказывать? Грязь. Кровь. Смерть.
Скажет – и сразу скручивает «козью ножку».
Мало-помалу встал на ноги. Еще бы не встать! Мастер был – на все руки. До сих пор в округе помнят знаменитого маляра. Да и не маляр он был, а художник.
Если мать вошла в мою жизнь через поля и леса, то дядя Павел – белыми туманами на реке и звездами на тихих, зеркальных плесах. Заядлый рыбак, он мог неделями пропадать на берегу, посвящая нас в таинство рыбной ловли. Теперь-тоя знаю: не рыбу ловили, а рассветы и закаты, без которых не было бы ни страсти, ни жизни.
Ах, годы вы мои, годы! Куда несетесь и кого уносите?
Заплыли, заросли плакун-травой родные могилы. Один за другим любимые мною люди ушли с этой грешной земли, где их невесть за что терзали и мучили. А они остались неподвластными ни подлости, ни черной зависти. Они все равно пели.
Я смотрю на поблекшие фотографии, на крестьянские руки и мудрые глаза и слышу: «Умирать собирайся, а рожь сей!»
Нет, о Пушкине они не рассказывали. Они просто взяли за руку и повели в мир, где ветер гудит в вершинах соснового бора, где кружится хоровод белых берез и где осенью, в пору светлой грусти, улетают журавли.
Без этого счастья душа была бы пустой, холодной и закрытой для Пушкина.
1994

Воронежский университет
У истоков судьбы
Я долго искал себя. Прежде чем переступить порог Воронежского университета, пришлось побродить и потолкаться по свету. И теперь, когда прошумели шестьдесят четыре весны, я понял: самая мудрая школа историка – жизнь! Без авиации, в которой прослужил шесть лет, без заводских цехов, где последовательно работал слесарем-сборщиком и подручным сталевара, без шахты, наконец – без районной газеты я никогда не состоялся бы как историк.
До альма-матер – Воронежского университета – два года пытался штурмовать философию в университете Московском, однако ушел оттуда в 1964 году по довольно простой причине.
Аттестат зрелости я получил, сдав экзамены за восьмой, девятый и десятый классы экстерном – в течение года. При этом сильно «хромал» по физике и математике, а на философском почти половина учебных дисциплин была связана с естественнонаучными областями знаний. Чтобы как следует поднатореть в них, намеревался взять академический отпуск, но тут возникла возможность перевода на чисто гуманитарный факультет, и я предпочел воспользоваться ею.