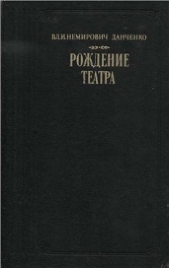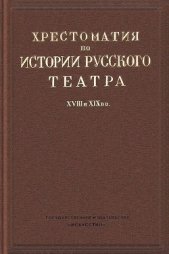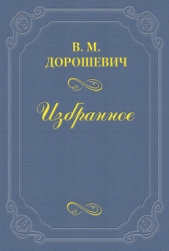Профессия: театральный критик
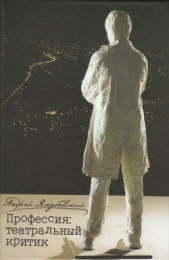
Профессия: театральный критик читать книгу онлайн
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тщетно искать следы сценической традиции в истолковании этих персонажей. Они и в самом деле полемичны не только по отношению к ней, но и к содержанию пьесы Вс. Вишневского. Режиссер транспонирует образ Комиссара в чеховскую тональность, представляет героиню "Оптимистической трагедии" сугубо интеллигентной, едва ли не только что пришедшей в революцию молодой женщиной, для которой каждое испытание совершается впервые, внове. Инна Чурикова кажется подчас Саррой из чеховского "Иванова", которая, даже не успев переодеться, стремительно и безоглядно, я бы даже сказал, жертвенно ступила на подмостки трагедии Вс. Вишневского. Образ не просто полемичен и не просто неожидан, но рассчитан на богатство ассоциаций и с легкостью порождает их. Трудно себе представить что-либо резко контрастирующее с чистотой и жертвенностью героини Чуриковой, нежели образ Вожака, созданный Евгением Леоновым. Никакой "глыбистости", ни малейшей попытки зримо сконденсировать в персонаже многоликую, изменчиво-постоянную, захватывающую глубинные пласты личности, вплоть до социальных ее истоков, мрачную злую силу, которой отмечено это действующее лицо пьесы. Если героиню Чуриковой невозможно представить себе в знаменитой кожанке, то Вожака Леонова трудно помыслить себе даже с револьверной кобурой у пояса. Этот с виду добродушный кругленький человечек с маленькими глазками и потной лысиной, иногда появляющийся перед зрителем в домашнем затрапезе, напоминает скорее кого-то из горьковских мещан или, может быть, купца из пьесы С. А. Найденова "Дети Ванюшина", но с трудом опознается главой анархистской вольницы.
Можно было бы занять по отношению к предложениям Марка Захарова непререкаемо-жесткую позицию неприятия. Для этого, кажется, есть все основания и не только литературно-театрального порядка. В свое время— правда, по иному поводу— Б. В. Алперс заметил, что есть образы, которые "уже давно перестали быть только созданиями отдельных художников и стали реальными людьми, живыми спутниками многих человеческих поколений. Все они, как реальные люди, меняются во времени... И в то же время в них сохраняется нечто постоянное, незыблемое, что не подвергается изменению, что навсегда связалось с их именем и составляет сокровенную сущность их человеческого характера, их социальной биографии". Ученый исходил при этом вовсе "не из педантичного пиетета перед "классиками", но из того, что такие персонажи "продолжают жить во многих людях своим человеческим характером" и сегодня, содействуя или тормозя движение жизни.
Думается, можно с известным правом отнести эти слова и к центральным образам "Оптимистической трагедии" Вс. Вишневского. Тем более что если революцию делали не одни мужественные воительницы, то ведь и не только вчерашние гимназистки, как назвал героиню Чуриковой один из рецензентов спектакля. Да и идейных наследников Баку-нинас Кропоткиным, о которых уместно рассказывает программка спектакля, вовсе не обязательно представлять в виде хитрого лабазника, с наслаждением ловящего рыбку в воде, взбаламученной бурей революции.
Однако не будем проявлять нетерпимость: искусство в известном смысле подвижнее жизни, в нем возможны открытия, которые демонстрируют острую свою неожиданность, а "эстетическая истина" сегодня "становится множественной", как замечает Марк Захаров в цитированной выше статье. Тем более что концепция режиссера сразу же выявляет и немалые свои выгоды, главные из которых — обозримость целого и резкая контрастность сценических решений.
Итак, в спектакле Театра имени Ленинского комсомола встретились чистота и грязь, святость и святотатство, гумилевское "с розоватых брабантских манжет" и пьяный разгул с блатной песней, не спетой даже, а выкрикнутой надсадно орущим Вожаком. Сошлись на сцене рафинированная интеллигентность, духовность с воинствующим дикарством, рядящимся в маску "рубахи-парня". Было проницательно замечено, что для Захарова "отсутствие... стилевого единообразия — не технологический, но мировоззренческий принцип". В данном случае, как кажется, это суждение очень уместно. В "Оптимистической трагедии" Захарова мировоззрение как бы тяготеет к слиянию с технологией, если можно так выразиться, зримо технологизируется.
Это проявляется и в характере сценического истолкования образов Комиссара и Вожака, прежде всего именно в технологическом смысле разведенных режиссером по разным полюсам. Эстетика внешних контрастов временами как бы берет верх в спектакле Захарова над иными мотивами и соображениями. Происходит своеобразное соревнование разнородных театральных манер: брутальная, приземленная фарсовость образа Вожака дает "бой" экспрессионистской взвинченности и экстатической многозначительности образа Комиссара; резкий, напористый, агрессивный рисунок роли Алексея (Н. Караченцов) спорит со сдержанной, интеллигентной манерой О. Янковского в роли лейтенанта Беринга, и так далее. Контрастируют приемы, которые, конечно же, включают в себя режиссерское отношение к действительности, но в то же время несут на себе явственную печать демонстративности.
Становится понятно, отчего режиссер так настойчиво привлекает наше внимание к тому, скажем, что лейтенант Беринг одет в цивильное пальто и мягкую фетровую шляпу, отчего Вайнонен (В. Проскурин) вылезает из люка, словно из могилы, у самых ног не успевшего уйти со сцены Ведущего. Важна не столько логика развития персонажей, сколько их остраненная яркой театральностью подача, так сказать, их сценическое инобытие. Кажется, еще немного и над действующими лицами спектакля нависнет угроза окончательного превращения в маски, настолько эмоциональная жизнь персонажей стеснена и прерываема всплесками режиссерской выдумки, подбором сценических знаков и театральных обозначений, источником которых становится богатейшая постановочная фантазия режиссера Захарова.
И фантазия эта работает блестяще. Вспомним фотографии военмо-ров, встречающие зрителей в фойе, вспомним еще раз Ведущего, как бы вышедшего из зрительного зала, вспомним поражающий воображение первый выход Комиссара в белом костюме с саквояжем и летним зонтиком в руках. В отдельных сценах фантазия режиссера поднимается до прозрений и догадок, отталкиваясь от которых, скажем, М. Захарову удается убедительно раскрыть синтез анархистской дезорганизованно-сти и бюрократического бездушия. В иных случаях, когда она не затрагивает сути происходящего в пьесе, не взрыхляет ее содержания, фантазия как бы отлетает далеко в сторону от раскрытия конфликтов, столь резко намеченных. Именно тогда постановка Захарова невольно начинает напоминать "монтаж аттракционов".
Думается, что для режиссуры М. Захарова это понятие очень важно. Подлинный театр для него — всегда поэзия. "Возможно, на сцене могут существовать какие-то другие, абсолютно прозаические и приземленные построения,— пишет он,— но для меня они всегда лишь блоки, составные элементы, которые могут превратиться в здание современного спектакля лишь в поэтическом монтажном слиянии, при известной общей деформации и непременном создании внутреннего ритмического каркаса". С этим режиссерским методом бессмысленно спорить, коль скоро он породил такую своеобразную творческую личность, как режиссер Захаров. Но все дело в том, что в данном случае, как кажется, Захаров не всегда точен в выборе "блоков" в пьесе Вс. Вишневского, не всегда достигает ценой деформации и монтажа поэтического звучания и напряженного внутреннего ритма спектакля. Чаще он просто театрализует жизнь героев пьесы, иногда отталкиваясь от ее текста, порой идя наперекор ему. Итогом и в том, и в другом случае и становятся аттракционы, которыми особенно богата первая часть спектакля.
Вот режиссер делает акцент на вырванной из контекста реплике Вожака: "Будем жить", — и на сцену тотчас же выносится кровать, на которую будет повержена Комиссар. Вот Сиплый (А. Абдулов) в шутку предлагает Вожаку дать почитать Комиссару брошюру Кропоткина, — Вожак извлекает из стола соответствующую литературу и неимоверно долго и смешно, заплетающимся, неповинующимся языком пытается прочесть что-то очень анархическое. Вот капельмейстер прибегает с вопросом, что играть оркестру, — Вожак достает карандаш и с важным видом начинает перечеркивать врученные ему листы нотной бумаги. Если здесь сохраняется связь с пьесой и режиссерской концепцией, то куда труднее ее уловить в тех случаях, когда источником того или иного трюка становится суверенная воля режиссера. Когда, например, делается групповая фотография по случаю прибытия на корабль комиссара от правящей партии, когда Вожак словно бы в припадке падучей орет свою песню, когда он, ожесточась, "вколачивает" печать в разбросанные на столе бумаги или в разгаре диалога начинает подолгу отвечать на телефонные звонки тоном какого-нибудь современного начальника-бюрократа: "Люди у меня..."