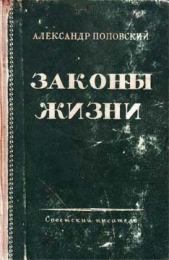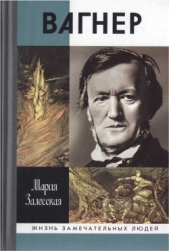Избранные работы

Избранные работы читать книгу онлайн
В сборник входят наиболее значительные работы Р. Вагнера («Искусство и революция», «Опера и драма», «Произведение искусства будущего» и др.), которые позволяют понять не только эстетические взгляды композитора и его вкусовые пристрастия, но и социальную позицию Вагнера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким образом, отношение Гете и Шиллера позволяет нам глубоко заглянуть в истинную натуру поэта. И если, с одной стороны, Шекспир и его приемы казались им непонятными, а с другой, в результате такого же непонимания приемов музыканта они считали, что только ему одному посильна задача идеального оживления драматических образов, то возникает вопрос: как же они — истинные поэты — относились к настоящей драме и могли ли они вообще, будучи поэтами, испытывать призвание к драматургии? Кажется, что сомнение в этом все сильнее овладевало обоими правдивыми мужами, и даже по изменчивой форме их набросков можно предположить, что они постоянно чувствовали себя как бы в состоянии поисков. Если мы попытаемся углубиться в природу этих сомнений, то можем найти здесь признание, что драме недостает поэтической сущности, которую саму по себе, однако, следует понимать как нечто абстрактное, и, только когда материал обретает форму, она становится конкретной. Если невозможно представить себе ни скульптора, ни музыканта, лишенного поэтической сущности, то тогда позвольте спросить: почему же именно то, что приводит их к созданию художественного произведения, действует в них как скрытая сила, а подлинный поэт может прийти к тому же результату только через осознанный творческий инстинкт?
Не пускаясь в изучение затронутых здесь тайн, мы все же должны помнить, чем отличается умственно и нравственно образованный современной поэт от наивного поэта древнего мира. Тот, прежде всего, сам выдумывал мифы, затем он становился их рассказчиком, произнося эпос вслух, и, наконец, их непосредственным изобразителем в живой драме. Этой троекратной формой прежде других поэтов овладел Платон для своих живых и щедро наполненных мифотворчеством драматических сцен-диалогов 113, которые с полным основанием (особенно великолепный «Пир» этого поэтического философа) могут рассматриваться как недостижимый образец настоящей, всегда склонной к дидактике, литературной поэзии. Здесь абстрактно-популярные формы наивной поэзии использовались еще только ради того, чтобы сделать понятными философские тезисы, и сознательно введенная тенденция заменяет собою воздействие непосредственно увиденной жизненной ситуации. Использование «тенденции» в драме, разыгранной в лицах, очевидно, казалось нашим великим поэтам удачным способом облагородить существующий популярный театр; к этому мнению их могло склонить уважение к особым качествам античной драмы. Поскольку она достигала своеобразия своего трагизма в компромиссе между стихиями Аполлона и Диониса 114, в ней могли соединиться на основе ставшей уже почти непонятной древнеэллинской лирики дидактический гимн жреца с более поздним дифирамбом в честь Диониса для пленительного эффекта, который так неотъемлемо присущ трагическим художественным произведениям греков. Действовавшая здесь стихия Аполлона на все времена приковала к греческой трагедии как литературному памятнику особое внимание прежде всего философов и дидактических поэтов; вполне понятно, что это могло привести и наших более поздних поэтов, видевших в ней лишь кажущееся литературное произведение, к мысли, что именно в дидактической тенденции нужно искать подлинное достоинство античной драмы и, следовательно, только внедряя тенденцию в существующую популярную драму, последнюю можно поднять на идеальную высоту. Однако подлинно художественный образ мыслей предостерег их от того, чтобы свою полную жизни драму принести в жертву голой тенденции; но средством, которое могло ее одухотворить и одновременно поставить на котурны идеальности, могла быть, по их мнению, только заранее продуманная высокая тенденция, тем более что единственному материалу, который находился в их распоряжении, — орудию для разъяснения понятий, языку слов, — только таким путем было возможно и полезно придать благородство и возвышенность. Поэтически выраженная сентенция могла быть уместна только при высокой тенденции; исходившее от нее воздействие на чувственное восприятие драмы, было возложено на так называемый поэтический слог. Но это и есть тот самый ложный пафос, который соблазнил наших великих поэтов при сценическом воплощении их собственных пьес, и распознание его должно было вызвать критические размышления после того, как они почувствовали силу воздействия глюковской «Ифигении» и моцартовского «Дон Жуана». Особенно на них должно было подействовать то обстоятельство, что под влиянием музыки драма сразу же перенесла их в сферу высшего совершенства, откуда самое простое движение действия представало в преображенном свете. Чувства и мотив сливались в одном непосредственном выражении и взывали к самому благородному умилению. Здесь пропадало всякое желание понять тенденцию, ибо сама идея осуществлялась перед ними как неоспоримый призыв к высшему сочувствию. Здесь уже не нужно было произносить: «Кто ищет, вынужден блуждать» или «Бытие не лучшее из благ», ибо сокровеннейшая тайна самой мудрой сентенции обнаруживалась перед ними без всяких покровов в ясной мелодической форме. Если та говорила: «Это значит», то эта говорила: «Это так и есть!» Высший пафос стал истинной душой драмы, будто из счастливого мира мечты явилась перед ними с приятной, правдивостью картина жизни.
Но каким же загадочным должно было казаться нашим поэтам это произведение искусства! В чем здесь можно было обнаружить поэта? Несомненно, не в том, где сами они были так сильны, — не в мысли и не в поэтическом слоге, что в этих текстах было ничтожно. Следовательно, если здесь не могло быть речи о поэте, оставался музыкант, которому, как казалось, безраздельно принадлежало произведение искусства. Однако собственный масштаб этих художников не позволял им признать за музыкантом силу, которая соответствовала бы огромной силе воздействия этого произведения. В музыке они явно видели неразумное искусство, нечто отчасти дикое, отчасти нелепое, к чему нельзя было подступиться для подлинно художественного формирования. К тому же у оперы ничтожная, бессвязная конструктивная форма, лишенная всякой доступной пониманию композиционной соразмерности, ее отдельные произвольно составленные части могут претендовать на все, что угодно, но только не на последовательный драматический план. И если это было той драматической основой, которая обобщила в «Ифигении» Глюка распыленную, хаотическую форму в одно захватывающее целое, то невольно возникает вопрос: кто же в таком случае мог занять место оперного поэта и написать для Глюка странный и убогий текст его арий, если бы он сам не пожелал взять на себя задачу «поэта»? Непостижимо было это впечатление высшего совершенства, где, однако, нельзя было обнаружить тех художественных факторов, которые, по аналогии с любым другим искусством, должны были здесь присутствовать. Непостижимость становится еще большей уже независимо от этого глюковского произведения, которое так осмысленно и возвышенно благодаря заимствованному из античности готовому сюжету самого благородного трагического содержания; ибо приходится признать, что опера даже при любой нелепой и поверхностной интерпретации при известных обстоятельствах оказывает ни с чем не сравнимое воздействие в самом идеальном смысле. И эти обстоятельства вступают в силу тотчас, как только большой драматический талант завладевает партиями такой оперы. Вспомним, например, для многих современников незабываемое исполнение партии Ромео в опере Беллини, которое показала нам однажды Шредер-Девриент. Все чувства музыканта должны были противиться признанию какого-либо художественного значения этой насквозь пустой и жалкой музыки, которая прикрывала здесь оперную поэму гротескного убожества, тем не менее спросим любого, кому довелось это пережить, какое впечатление по сравнению с Ромео в исполнении Шредер-Девриент произвел на него Ромео нашего лучшего актера в самой пьесе великого британца? При этом следует засвидетельствовать, что эффект создавала ни в коем случае не вокальная виртуозность, как это бывает у иных наших оперных певиц; здесь удача, поддержанная скромными, но отнюдь не роскошными голосовыми данными, заключалась исключительно в драматическом достижении, которое, однако, никогда не удалось бы актрисе, даже равной Шредер-Девриент, в самой превосходной пьесе с декламацией; следовательно это было осуществимо только в музыкальной стихий, всегда способной идеально преобразить даже такую жалкую форму.