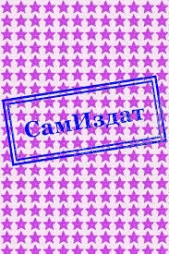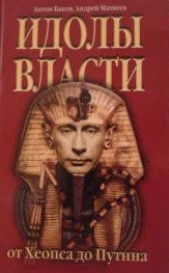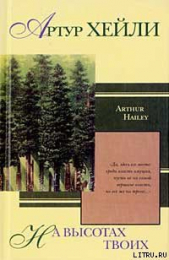Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В поэтическом мире Мандельштама бинокль Цейса и превращается в символическую структуру, орудие особого свойства. Мамардашвили называет такие орудия и активные измерители «артефактами». Гете писал: «Животных учат их органы, говорили древние; я прибавлю к этому: также и людей, хотя последние обладают тем преимуществом, что могут, в свою очередь, учить свои органы». Артефакты располагают нас в каком-то ином времени и пространстве и создают измерения сознательной жизни, которые естественным образом нам не свойственны. Артефакт — не искусственная приставка, механический усилитель зрения, вроде реального бинокля Цейса в реальном мире, а элемент и условие самого видения или — в терминологии Мандельштама — «в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия» (III, 200). Поэтический бинокль создан, а не получен, и созданный однажды не может сохраняться сам по себе, а нуждается в непрерывном воссоздании. Белый даже выдумает глагол «биноклить». «Поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает» (III, 251).
Автор — не наблюдатель, а соучастник, но в чем же он соучаствует? В каких-то событиях понимания, которые не могут быть получены вне символической структуры артефакта. Мандельштамовский мир — это не мир законченных событий, устойчивых атрибутов и прямых перспектив. Взгляд — это «акт понимания-исполнения» (II I, 217), а не пассивная аффицированность миром. «Глаз ищет формы, идеи» (III, 20 6), но эта форма не предшествует акту понимания, а исполняется, выполняется в самом акте видения. Понимание, индуцированное внутри артефактного, орудийного пространства зрения, само в свою очередь только и делает его возможным. Подобно стрелке, которая не обнаруживает магнитную бурю, а создает ее, бинокль не отражает или приближает облик ландшафта, а являет лик бытия. Марина Цветаева выводит формулу тождества бытия и видения — «быть-видеть», с очень характерной пунктирной растяжкой зрения:
Там, «где глаз людей обрывается куцый», у поэта, по Маяковскому, — «широко растопыренный глаз» и возможность «вытянуться отяжелевшему глазу» (I, 185, 187, 178). В своем путешествиии «Ветер с Кавказа» Белый писал: «…Художественная ориентация (знаю то по себе) так же необходима, как и практическая; вторая ориентация — удел путеводителя; но знание о поездах, гостиницах, путях и перечень названий — лишь подспорье для большего; большее — умение подойти к открывающейся картине мест; мало видеть; надо — уметь видеть; неумеющий увидеть в микроскопе напутает, это — все знают; не знают, что такой же подход необходим и к природе; мне приходилось видеть людей, скучающих у Казбека; они говорили: „здесь — нечего делать“. И это происходило не от их нечуткости, а от неумения найти расстояние между собой и Кавказом. Каждая картина имеет свой фокус зрения; его надо найти; и каждая местность имеет свой фокус; лишь став в нем, увидишь что-нибудь».
Значит, Мандельштам ищет не другое место, а фокус зрения. «Глаз-путешественник» всегда в движении. Взгляд обладает своей плотностью и протяженностью («я растягивал зрение, как лайковую перчатку…»), мерой и познавательной силой. Бинокль Цейса — символическое тело взгляда в «Канцоне». У Данте:
Случаясь и располагаясь в акте видения, пропитывая им себя, автор пытается проникнуть в невидимую даль будущего и разгадать собственную участь. Только испытанием, а не посторонним наблюдением открывается истина о мире. И это испытание зрением, с одной стороны, врастает вавторскую судьбу («чтобы зреньем напитать судьбы развязку»), а с другой — является как акт понимания элементом и частью самого мира, самого бытия:
Бытийное завязывание и развязывание таких узлов и составляет суть мандельштамовской метафизики. «Музыка и оптика образуют узел вещи», — утверждает он (II I, 241). Бинокль и есть такая вещь-узел, солнечное сплетение псалмопевческого голоса и богоподобной прозорливости. Единый континуум «зрения — слуха — осязания — обоняния и т. д.» задается, с одной стороны, идеей того, что «видеть, слышать и понимать — все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке» (III, 185), а с другой — обеспечивается постоянным межъязыковым оборотничеством ключевых значенией: «Глаз» = глас, голос; нем. Glas — 1). «стекло», 2). «очки», 3). «бинокль»; Glaslinse, — «оптическое стекло»; Zeib glas — «бинокль Цейса». (Мандельштамовские «луковицы-стекла» пребывают в родстве с английским взглядом, они «смотрят» — «look».) По Пастернаку: «Всегда перед глазами души (а это и есть слух) какая-то модель, к которой надо приблизиться, вслушиваясь, совершенствуясь и отбирая» (IV, 405).
Принцип слова, торчащего пучком смыслов, о котором говорил сам поэт, имеет не только центробежный, но и центростремительный характер, когда слово чужого языка прорастает щедрым пучком смыслов в родном, русском языке. «Стихотворение, — пишет он, — живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это внутренний образ, это его осязает слух поэта» (I, 215). Таким звучащим слепком формы и является «Glas / глаз». Это и есть, по Пастернаку, модель, приближаясь к которой, вслушивается и совершенствуется поэт. Вяч. Иванов писал в статье «К проблеме звукообраза у Пушкина» (1930): «Ряд отдельных стихотворений и формально замкнутых мелических эпизодов, составляющих части более обширных композиций, сводятся у Пушкина к некоему единству господствующего звукосочетания, явно имеющего для поэта <…> символическую значимость. Их расцвет в слове есть раскрытие в процессе творчества единого звукового ядра, подобно сгустку языковой материи в туманности, долженствующей преобразоваться в многочастное и одаренное самобытной жизнью тело. О символической природе звукового ядра можно говорить потому, что оно уже заключает в себе и коренной звукообраз как морфологический принцип целостного творения…» (IV, 345). Коренной звукообраз предстает особым срезом мира и является особой точкой зрения на мир. Он не только един в себе, но и все собою пронизывает и определяет. Этот «внутренний образ» осуществляется целым произведением, которое выступает как пространство силового поля соответствующих внутренних звукообразов.
Перед посещением выставки французских импрессионистов в «Путешествии в Армению», написанном в то же время, что и «Канцона», автор исполняет странный ритуал приготовления зрения к просмотру:
«Тут я растягивал зрение и окунал глаза в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза.
Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку — на синий морской околодок…» Прервем цитату. Гете был твердо уверен в том, что «рука сама должна была зажить собственной жизнью, стать самостоятельным естеством, обрести мысль и волю» (VIII, 359). Таким мыслящим и волевым органом рука, несомненно, стала в русской поэзии начале века. «Рука — то же сознание», говорил Хлебников: «Итак, самовитое слово имеет пяти-лучевое строение и звук располагается между точками, на остове мысли, пятью осями, точно рука…» (V, 191). В сотворенном слове смысл — кость, звук — плоть, подобно человеческой руке. Визуализируя хлебниковский опыт, Мандельштам облачает руку в перчатку. В стихотворении грузинского поэта Иосифа Гришашвили «Перчатки», которое перевел Мандельштам, перчатки приобретают вселенский масштаб: одолжив у луны шелковых ниток и золотую иголку у ручья, герой солнечными ножницами кроит из тумана перчатки в подарок своей возлюбленной. Пуговицы — две слезы. Космогоническому творению перчаток предшествует взгляд через бинокль: «Я навел на гору стекла моего бинокля…» (II, 100). Продолжим цитату из «Путешествия в Армению»: «Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку — на синий морской околодок…