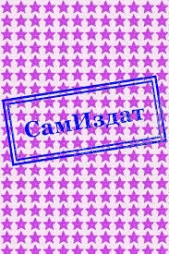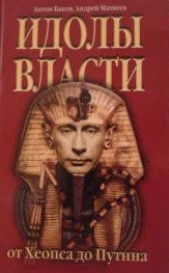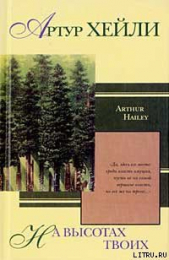Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
II. «КАНЦОНА» В СВЯЗИ СО СТРУКТУРАМИ ЗРЕНИЯ У МАНДЕЛЬШТАМА
Может быть, это точка безумья,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.
Отношения искусства к природе у Мандельштама строятся на двух, казалось бы, взаимоисключающих началах. С одной стороны, искусство — это вторая природа. Она не отражает первую, не воспроизводит и не реализует ее. Искусство живет по своим собственным законам. С другой стороны, природа, понятая не как внеположенная культуре реальность, а как сущность, которая открывает полноту, единство и завершенность мира, — и есть единственно подлинный предмет искусства. Представьте себе, говорит Мандельштам, гранитный памятник, посвященный граниту как таковому. Не человеку или всаднику, а идее гранита самой по себе. Такое искусство должно раскрыть внутреннюю структуру камня, реализовать его материальность, создавая из гранита памятник в честь самого гранита. И здесь поэт — этакая повитуха на родах природы. Он ничего не творит, а дает природе возможность самой выявить свою сущность. Но эти взаимоисключающие начала объединяются в рамках некоего единого мимесиса.
В каком-то смысле главный герой стихотворения — зрение. Вся текстовая ткань пронизана оптикой и процедурами какого-то напряженного видения. Весь сюжет «Канцоны» строится как визуальная эстафета, передача из рук в руки оптических средств: от Давида — Зевесу и потом от Зевеса — автору. Тождество лирического героя и автора здесь для нас принципиально («я сам — содержание своих стихов», — говорил Овидий). Сами оптические средства при этом претерпевают значительные трансформации.
Откуда берет начало эта эстафета? От горного ландшафта. Мандельштам никогда бы не согласился с Ходасевичем, говорившим: «Природа косная мертва для проницательного взгляда». Объединение противопоставленных начал — «природы» (горный ландшафт) и «культуры» (в предельно семиотическом выражении — деньги, акции), которое пытается увидеть автор в неопределенном «завтра» («банкиры горного ландшафта»), для него самого существует не как грядущий синтез, могущий состояться или не состояться, а как изначальное единство. Дело в том, что нем. Bank, — это не только «банк» как финансовое учреждение, но и «геологический пласт, слой». «Гора божество. — писала Марина Цветаева, — Гора дорастает до гетевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора — это <…> моя точная стоимость. Гора — и большое тире <…>, которое заполни глубоким вздохом». То есть трудновообразимое выражение «банкиры горного ландшафта» для Мандельштама тавтологично. Резко противопоставленные компоненты метафоры онтологически уравнены. Банкир сродни философу; Ницше здесь охотно цитировал слова Стендаля: «Банкир, которому повезло, отчасти обладает характером, приспособленным к тому, чтобы делать открытия в философии, т. е. видеть ясно то, что есть» (voir clair dans ce qui est) (II, 272).
«Wir sind wie Adern im Basalte / in Gottes harter Herrlichkeit», — писал Рильке (Мы, как артерии в базальте, в тверди божественного великолепия). Выращивание «культуры как породы» поэт сам возводил к Новалису и его метафизике горного ландшафта (правда, антибуржуазный пафос Новалиса избавил бы его от такой рискованной метафоры, как «банкиры горного ландшафта»). Первоначально текст должен был называться «География», но мандельштамовская география — не столько план-карта поверхности, сколько геология глубины. Земной глубины, из которой, подобно органной партитуре, рвутся породы и слои, скорее похожие на натурфилософские стихии, чем на неподвижные напластования недр. В очень родственном по духу Мандельштаму стихотворении «Vers dor's» Ж. де Нерваля, последнюю строку которого взял эпиграфом к флорентийской главе «Пленный дух» своих «Образов Италии» П. Муратов:
Это бытие сокрытого божества, которое смотрит на тебя и содержит то, с чем ты еще не воссоединился. Оно жаждет высвобождения. И выходящая на поверхность порода — не материальное образование, а образ самопроявляющейся сущности:
«Меня, — признается Мандельштам, — все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, <…> из знаменитого ломоносовского послания:
Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности…» (II, 266).
Ремесленная обработка и шлифовка стекла остались бы совсем за кадром, если бы не «луковицы-стекла», связанные со Спинозой. В «Египетской марке» (1928): «Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок» (II, 476). Культурная традиция прочно связывала образ Спинозы с обрабатываемым стеклом. Лейбниц о Спинозе: «Известный еврей Спиноза <…> был по профессии философом и вел тихую и совершенно одинокую жизнь, его ремесло состояло в шлифовании оптических стекол и изготовлении очков и микроскопов». Как бы ни был мифологизирован образ реального Спинозы, Мандельштам реализовывал его (реализовывал — во всех смыслах этого слова) в своем поэтическом опыте. Спиноза соединял в себе мыслителя и ремесленника, рукотворный опыт и чистое умозрение. Таким образом, перед нами иудейское и мыслящее стекло, мыслящее в той мере, в какой руки у Мандельштама всегда видящие, зрячие. И вот это иудейское мыслящее стекло — «бинокль прекрасный Цейса» — прозорливец Зевес получает от царь-Давида, в свою очередь передавая псалмопевческий дар видения автору, который любит военные бинокли.
В записных книжках к «Литературному портрету Дарвина» Мандельштам помечает: «Глаз натуралиста обладает, как у хищной птицы, способностью к аккомодации. То он превращается (а превращение всегда связано с вращением — Г. А., В. М.) в дальнобойный военный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира» (I II, 395). Бинокль, лупа, кодак и т. д. — это не законченные, устоявшиеся предметы, а подвижные формы, «орудийные метаморфозы», всегда сохраняющие возможность превращения в другой предмет. Этот ряд превращений напоминает устройство приборов в оптическом эксперименте, где по ходу светового луча в различном порядке выстроены зеркала, линзы, призмы и т. д. Конечно, это только аналогия. Важно лишь подчеркнуть, что мандельштамовские «оптические средства» — выстраиваясь ли друг за другом, встраиваясь ли друг в друга — существуют не отдельно, а как единое целое.
Но какой в этом толк? С чем связано превращение горной породы в бинокль Цейса? Зачем поэту бинокль и что он собирается увидеть?
Мандельштам вполне согласился бы с Мерло-Понти в том, что мир таков, каким мы его видим, но необходимо учиться его видеть. Гетеанский дидактиль и дисциплина Андрея Белого — «воспитание глаза». Достичь новых способов видения можно лишь созданием специальной оптики, устройств особого рода, поэтических органов, которые не являются продолжением или удвоением органов физического зрения. Мандельштам пишет о Данте, одновременно характеризуя и себя: «Дант никогда не вступает в единоборство с материей, не приготовив органа для ее уловления, не вооружившись измерителем для отсчета конкретного каплющего или тающего времени. В поэзии, в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее, измерители суть орудия особого свойства, несущие особую активную функцию. Здесь дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает» (II I, 221–222).