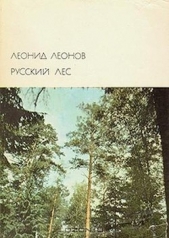История русского романа. Том 1
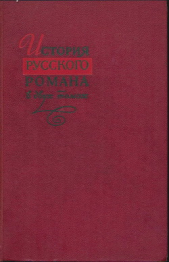
История русского романа. Том 1 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
История Бэлы рассказана Максимом Максимычем, но только после того, как его спутник решил «вытянуть из него какую‑нибудь историйку» (208); притом он рассказал ее в три приема (да еще со вставками больших монологов — Казбича и Печорина): 1) от начала («вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой»), кончая словами: «Мы сели верхом и ускакали домой» (208–215); 2) от слов: «Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать», кончая: «Да, они были счастливы!» (и добавление о гибели отца Бэлы; 215–222) и
3) от слов: «Ведь вы угадали» до последнего абзаца («В Коби мы расстались с Максимом Максимычем»; 228–238). Большое вступление заполнено рассказом автора о знакомстве с Максимом Максимычем и об их совместной ночевке в сакле по дороге на Гуд — гору. Большая пауза между второй и третьей частью «историйки» заполнена описанием родъема на Гуд — гору с видом Койшаурской долины, спуска с Гуд — горы, подъема на Крестовую гору, спуска с нее и, наконец, новой ночевки в сакле на станции Коби. Ко всему этому надо добавить, что действительным рассказчиком или автором истории Бэлы является не Максим Максимыч, а «ехавший на перекладных из Тифлиса» (203) писатель, поскольку он, по его же словам, воспользовавшись задержкой во Владикавказе, «вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей…» (239). Вот какой сложной оказывается при близком рассмотрении конструкция, кажущаяся при чтении столь естественной и легкой.
Благодаря такой конструкции и искусству, с которым она сделана, жанр вещи освежается, а сюжет обогащается новыми смысловыми оттенками. Белинский был совершенно прав, когда откровенно высказал свое удивление (эта способность к удивлению составляет одно из его замечательных достоинств как критика): «Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно любил ее, но скоро охладел к ней; потом черкес увез было ее, но, видя себя почти (пойманным, бросил ее, нанесши ей рану, от которой она умерла: вот и всё тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного, а всё обыкновенно, до пошлости, истерто». Ответ Белинского неясен и слишком отвлеченен: «Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возьмется за перо… Он должен сперва видеть перед собой лица, из взаимных отношений которых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не расчисляет, не теряется в соображениях: всё выходит у него само собою, и выходит так, как должно». [507] Это, конечно, просто неверно и притом никак не отвечает на поставленный вопрос. Художник, конечно, очень «обдумывает» и очень «расчисляет», и часто приходит в отчаяние, и еще чаще вычеркивает то, что написал, и пишет заново — и всё это для того, чтобы добиться от слов и их сочетаний новых, не стертых, не ходячих значений и смыслов. В стихах этому содействуют ритм и связанные с ним семантические воздействия на слово, в прозе (особенно в романе) это достигается не столько стилистической, сколько сюжетно — конструктивной разработкой фабульных схем, сцеплением разных сцен и эпизодов, созданием содержательных и свежих мотивировок.
В «Бэле» это сделано с удивительным мастерством. История черкешенки рассказана человеком, который и по своему положению, и по характеру, и по привычкам, и по возрасту мог быть только наблюдателем, но близко принимающим к сердцу всё происходящее. Он даже несколько «завидовал» Печорину («мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила»; 222) — и этим достаточно мотивирована лирическая окраска всего его рассказа. Если же его речь (как отмечали многие, начиная с юного Чернышевского [508]) не всегда удерживается в рамках «штабс — капитанской» лексики, то ведь достаточной мотивировкой для этого «противоречия» служит то, что весь рассказ Максима Мак- симыча дан в «записи» автора, в задачу которого вовсе не входила точная передача его лексики. Всё дело в том, что Лермонтову надо было, с одной стороны, сохранить тональную разницу двух рассказчиков, а с другой — создать единство авторского повествовательного стиля, не дробя его на отдельные языки: «едущего на перекладных» писателя, старого штабс — капитана, разбойника Казбича, мальчишки Азамата, Бэлы и самого Печорина (слова которого, по выражению Максима Максимыча, «врезались» у него в памяти). Эта задача решена тем, что в речи каждого из перечисленных лиц есть индивидуальные языковые «сигналы», дающие ей необходимую тональную или тембровую окраску, а вещь в целом все‑таки звучит как произведение одного автора — того самого, который «вытянул историйку» из Максима Максимыча и потом «записал» ее. Таким образом, «обыкновенная до пошлости» история о похищенной русским офицером черкешенке пропущена через призму с несколькими гранями, благодаря чему она доходит до читателя в виде многоцветного смыслового спектра.
Кроме этой сложной повествовательной структуры, придающей словам новые смысловые оттенки, рассказ о Бэле, как мы уже отмечали, представляет собою сложную сюжетно — жанровую структуру, при которой авантюрная новелла оказывается входящей в «путешествие», и, наоборот, «путешествие» входит в новеллу как тормозящий ее изложение элемент, делающий ее построение ступеньчатым. Сделано это при помощи самых простых и естественных мотивировок, так что получается впечатление, будто рассказ течет «собственною силою, без помощи автора». [509] Только в одном месте Лермонтов решил разрушить эту иллюзию и дать читателю почувствовать силу самого искусства. «Да, они были счастливы!» — говорит Максим Максимыч. «Как это скучно!» — цинично восклицает (несомненно, вместе с читателем) его слушатель (222). Идет подробное, медленное описание подъема на Гуд — гору и спуска с нее, сделанное на основе читательского нетерпения и потому заставляющее с надеждой всматриваться в каждую деталь (а это‑то и нужно писателю!), пока, наконец, терпение не истощается — и в этот момент «ложной коды» с полуфинальным афоризмом («и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться»; 225), в момент сюжетного затишья раздается внезапный, оглушительный вопрос: «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?» (225). Кто задает этот вопрос и к кому он обращен? Может быть, это Максим Максимыч спрашивает своего слушателя? Нет, это сам автор подал голос своему читателю, с которым он до сих пор не вел никаких разговоров, и ему же адресован несколько игривый ответ: «Во — первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс — капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую…» (225). В сущности, это почти то же, что и у Бестужева в «Испытании», но с той разницей, что там это торможение подано в чистом виде и потому лишено жанрового значения, а здесь оно выступает в гораздо более серьезной функции — как результат «гибридности», которая придает всему сюжету новую смысловую и эмоциональную окраску.
Именно здесь, среди этой длительной «географической» паузы, автор «Бэлы» говорит одну многозначительную фразу, бросающую некоторый дополнительный свет на его личность и тем самым на весь роман. Спуск с Крестовой горы был труден: «Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. „И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клитки“» (226–227). Что значат слова: «И ты, изгнанница»? Кто же еще здесь изгнанник, плачущий о северных степях? Очевидно, сам автор «Бэлы», который скоро (в апреле 1840 года) повторит это, обращаясь к тучам: «Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники» (Л, II, 165). Итак, «едущий на перекладных из Тифлиса» писатель — вовсе не «странствующий офицер», как принято его называть в работах о «Герое нашего времени», а высланный, и едет он, по — видимому, не в Петербург, а всего — навсего в Ставрополь, как и Максим Максимыч («Мы с вами попутчики, кажется?»; Л, VI, 204). А заодно — и еще вопрос: офицер ли он? Раньше это было ясно, поскольку в подзаголовке к «Бэле» стояло: «Из записок офицера о Кавказе»; но затем подзаголовок был снят, а в текстах «Бэлы» и «Максима Максимыча» нет ни одного прямого указания или признака в пользу этого. Максим Максимыч говорит о себе точно и ясно: «Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?» Автор пишет: «Я сказал ему» (205) — и всё. Осетины обступили автора и требовали на водку; из слов Максима Максимыча следует, что они твердили: «офицер, дай на водку», но он же говорит: «и хлеба по — русски назвать не умеют» (205), — значит, слово «офицер» они употребляют во всех слу чаях. Один из извозчиков, оказавшийся «русским ярославским мужиком», обращаясь к автору, называет его просто «барином» («И, барин! Бог даст, не хуже доедем»; 225). В диалогах автора с Максимом Максимычем нет ничего специфически военного; наоборот, на вопрос автора: «Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам?» — штабс — капитан отвечает так, как будто с ним беседует штатский: «Да — с, и к свисту пули можно привыкнуть», на что следует тоже достаточно типичная для штатского реплика: «Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна» (224).