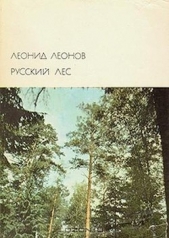История русского романа. Том 1
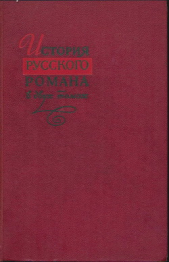
История русского романа. Том 1 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
34
что юный Печорин намерен жить и действовать по следам Онегина; на деле оказывается, что ему с Онегиным совсем не по пути. Наружность, у него, к несчастью, вовсе непривлекательная: «… он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению»; жесты его часто «выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века», но «сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости… в свете утверждали, что язык его зол и опасен… Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности…» (124). Последние слова кажутся неожиданным вторжением прежнего, романтического стиля (в духе «Вадима»), но это и характерно для начатого Лермонтовым вместе с Раевским романа — по крайней мере для той его части, в которой действует Печорин: он задуман не в согласии с пушкинским Онегиным, а в полемике с ним.
Характер и основа этой полемики еще не совсем ясны (они вполне определяются в «Герое нашего времени»), но одно несомненно: Печорин задуман не как разочарованный скептик, а как глубокая, страстная и сильная натура. Недаром Лермонтов говорит о его «настоящей природе», которая прорывалась сквозь «холодную кору». В отношениях Печорина и Веры E. Н. Михайлова справедливо видит «протест против насилия и искажения светом натуры человека». Дело, конечно, не только в «свете» самом по себе: здесь, как она же говорит дальше, борются «начала, навязанные человеку современным обществом», с «началом „естественным“, вложенным самой природой». [429] Этой социальной идеей окрашен весь текст романа — и Печорин дан не как представитель «света» и даже не как его жертва, а как начало протеста. Онегин только «охлажден», Печорин озлоблен. Онега течет ровно, в одном направлении к морю; русло Печоры изменчиво, витиевато, это бурная, горная река. Они текут почти параллельно, но разно. Не это ли имел в виду Лермонтов, выбрав для своего героя такую фамилию? Белинский отметил это: «Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом». [430] В данном случае эта «необходимость» была, конечно, не только «видима» поэтом, но и вполне сознательно найдена им, и Белинский тут же прекрасно показал это, сопоставив Онегина, которому «всё пригляделось, всё приелось, всё при- любилось», с Печориным: «Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою». [431] После этих слов кажется не вполне убедительным известное утверждение Белинского: «Несходство их (Онегина и Печорина, — Б. Э.) между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою». [432] Дело здесь не в расстоянии, а в характере русла и течения.
События 1837 года (гибель Пушкина, ссылка Лермонтова за стихотворение на его смерть и пр.) остановили работу над романом; но было достаточно и других причин, замедлявших и в конце концов вовсе прекративших ее. Эти причины кроются, помимо всего прочего, в самых возможностях русского романа 30–х годов. Как мы видели, роман в понимании Пушкина и его современников должен был содержать картину не только частной, интимной жизни, но и «исторической эпохи», хотя бы он и не был «историческим» по жанру и описываемым в нем событиям. Для русской литературы 30–х годов это требование было трудно осуществимым. Недаром Тургенев даже в начале 50–х годов выражал сомнение в возможности у нас большого «сандовского» или «диккенсовского» романа: «…настолько ли высказались уже стихии нашей общественной жизни»? — спрашивал он в статье о романе Е. Тур «Племянница». К 30–м годам этот вопрос приложим в еще большей мере; в той же статье Тургенев говорит, что пример Гоголя тут ничего не значит: «… в том, что он свои „Мертвые души“ назвал поэмой, а не романом, лежит глубокий смысл. „Мертвые души“ действительно поэма — пожалуй, эпическая, а мы говорим о романах». [433]
«Княгиная Лиговская» была задумана как большой (по терминологии Тургенева — скорее всего «сандовский») роман, в котором сложные психологические и нравственные вопросы должны были встретиться с самыми острыми вопросами социальной жизни. Материал, собранный Лермонтовым и Раевским, был взят из разных сфер, трудно соединим и недостаточен. Пришлось рассказчику взять на себя роль комментатора, поясняющего слова и поступки персонажей, смысл которых не становился от этого яснее, а между тем изложение приобретало назойливо- дидактический характер. Нравственно — сатирической дидактикой русская проза 30–х годов была и без того богата. Пора было обратиться к художественному анализу главных «стихий» русской жизни, а для этого надо было найти соответствующие формы и жанры.
Русский роман 30–х годов не мог быть и не был простым продолжением старого нравоописательного, дидактического или авантюрного романа. События 1812–1814 и 1825–1826 годов внесли в русскую общественную жизнь настолько резкие изменения и поставили перед литературой столько новых задач и вопросов, что она должна была произвести решительный пересмотр своих целей и возможностей (даже своих личных рядов) и прийти к радикальному обновлению тем, методов, форм и традиций. Это была своего рода культурная революция; тем более серьезными и трудными были стоявшие перед ней задачи.
Нельзя было сразу сесть и написать новый русский роман в четырех частях с эпилогом — надо было его собирать в виде повестей и очерков, так или иначе между собою сцепленных. Мало того, надо было, чтобы это сцепление было произведено не механической склейкой эпизодов и сцен, а их обрамлением или их расположением вокруг одного героя при помощи особого рассказчика. Так определились две труднейшие очередные задачи: проблема сюжетного сцепления и проблема повествования. В поэзии это было сделано Пушкиным: «Евгений Онегин» был выходом из малых стиховых форм и жанров путем их циклизации; нечто подобное надо было сделать в прозе.
Разнообразные формы циклизации сцен, рассказов, очерков и повестей— характерная черта русской прозы 30–х годов. В одних случаях — это сборники типа «Вечеров на хуторе близ Диканьки», или «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», или «Пестрых сказок»
— (В. Ф. Одоевского); [434] в других — это повести, структура которых представляет собою цикл разных новелл, обрамленных основной (головной). В этом отношении особенно интересны некоторые повести Бестужева- Марлинского. Такова, например, повесть «Латник» (1832), представляющая собою сложное сцепление ряда рассказов с несколькими рассказчиками, с хронологическими перебоями и пр. [435] В основной рассказ партизанского офицера о погоне за Наполеоном вставлен рассказ ста- рика — дворецкого о поместье князей Глинских — Треполь; после некоторых рассуждений и воспоминаний следует новый рассказ, как будто совершенно не связанный с предыдущим, поручика Зарницкого о Шуранском замке (это уже третий рассказчик), которого сменяет партизанский офицер, по с тем, чтобы передать слово «латнику», неожиданно оказавшемуся здесь и оканчивающему историю, рассказанную дворецким. После этого заканчивается рассказ партизанского офицера. В итоге историю жизни и гибели черного «латника», который оказывается главным героем всей повести, читателю приходится как бы складывать из кусков. Это, конечно, яе просто «игра» с формой, а лепка сюжета, благодаря которой сохраняется яркость эпизодов, а целое приобретает нужную смысловую нагрузку.