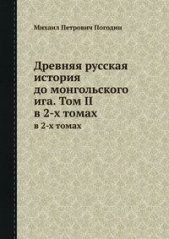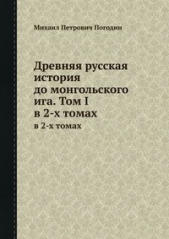Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Широкий спектр постмодернистских приемов, нарушающих литературную конвенцию (в том числе и модернистскую) и создающих эффект хаотичной формы, разворачивает Б. Мак-Хейл. На уровне композиции (помимо уже названных приемов) он считает важнейшими новшествами нарративы и сюжеты, подрывающие в процессе развития собственные основания и конвенции. Ярким примером такого нарратива в русской литературе является «Голубое сало» В. Сорокина, где финал делает логически невозможным начало романа (см. об этом в гл. 11). Аналогичный прием в кино использован, например, в фильмах «Memento» (2000) Кристофера Нолана и «12 обезьян» («Twelve Monkeys», 2001) Терри Гиллиама.
Показательны для постмодернистской «бесформенности» и текстовые структуры, организованные по принципу «сада расходящихся тропок» («62: модель для сборки» Хулио Кортасара, «Однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино, «Бледный огонь» В. Набокова, «Бесконечный тупик» Д. Галковского и др.). Композиция таких произведений может быть описана как бесконечно варьирующиеся ряды повторений одной и той же коллизии.
До некоторой степени подобные сочинения напоминают средневековую восточную прозу, основанную на бесконечном нанизывании повествований, связанных «рамочными» нарративными конструкциями. В самом, пожалуй, известном произведении такого рода — собрании арабских сказок «1001 ночь» — использован сюжетный ход, предвосхищающий одну из главных эстетических проблем описываемого типа произведений в постмодернизме. Шехерезада среди прочих сказок рассказывает шаху свою собственную историю, создавая тем самым неразрешимый парадокс: как целое может быть собственным фрагментом? Аналогичные приемы, подрывающие линейность повествования и превращающие текст в своего рода уроборос (змею, пожирающую саму себя), так или иначе использованы и в «Пушкинском доме» Битова, и в «Между собакой и волком» Саши Соколова, и в финале поэмы «Москва — Петушки». Близкие по смыслу композиционные построения нередко встречаются у Владимира Шарова (особенно показательны в этом отношении его романы «Репетиции», «До и во время», «Воскрешение Лазаря»), Естественно смотрятся в этом контексте и «обманки» (trompe-l’oeil) [80], основанные на сознательном смешении внетекстового и текстового уровней.
Постмодернистский текст… склонен поощрять «обманки», намеренно вводящие читателя в заблуждение, заставляющие принимать вымышленный, вторичный мир, в качестве первичного, постигаемого мира. Как правило, такие сознательные «мистификации» сопровождаются «демистификациями», в которых открывается подлинный онтологический статус предполагаемой «реальности», и соответственно обнажается вся онтологическая структура [81].
Русский постмодернизм предоставляет множественные примеры «обманок». Авторы 1970–1980-х годов во многом ориентировались при создании такого рода эффектов на традицию, заданную Набоковым: композиции некоторых его романов основаны именно на таком приеме (из русских следует назвать «Отчаяние», из англоязычных — «Подлинную жизнь Себастьяна Найта», «Бледный огонь» и «Лолиту»; подробнее о структуре «Лолиты» будет сказано в гл. 5). В качестве наиболее показательных примеров можно указать на псевдоавтобиографизм прозы Довлатова, его постоянные пересочинения собственной биографии и событий из жизни реальных, здравствовавших на момент публикации текста друзей и знакомых; смешение компьютерных игр и «реальности» в раннем рассказе Пелевина «Принц Госплана»; обсценную «оговорку» персонажа «Нормы» Сорокина, нарушающую последовательность стилизации под произведения Тургенева и Бунина [82]; сюжеты рассказов Татьяны Толстой, обязательно включающие в себя мистификацию, демистификацию, а затем и ре-мистификацию сюжетной темы («Река Оккервиль», «Петерс», «Факир» и др. [83]). На постоянных смещениях границы между историческим фактом и вымыслом строятся «фандоринские» романы Б. Акунина, в которых постмодернистская «обманка» превращается в ядро детективной интриги [84].
Близок «обманке» прием, который Дэвид Лодж называет «коротким замыканием»: под ним имеются в виду неожиданное вторжение в условный мир повествования метаобъяснений автора или иные формы имитации прямого, «неопосредованного» авторского присутствия в тексте. Сам Лодж указывает на возникновение этого приема уже у Стерна и Сервантеса, нередок он и в модернистской прозе, но в постмодернизме «появляется настолько часто и в таком количестве, что [это] явно свидетельствует о возникновении нового феномена» [85]. В русской литературе наиболее интенсивно такой способ «хаотизации» формы разрабатывали Андрей Битов (показательно, например, интервью у Левы Одоевцева, взятое автором, в конце «Пушкинского дома», а особенно комментарии к роману под названием «Близкое ретро») и Евгений Попов [86]. Роль такого «короткого замыкания» играет и совпадение имени главного — погибающего по ходу действия! — героя с именем автора в «Москве — Петушках» (впоследствии «цитатно» использованное в романе Э. Лимонова «Это я, Эдичка»). Аналогичный эффект производит имя персонажа, отсылающее, насколько можно судить, к реальному и не слишком известному лицу, но представляемое как общеизвестное и не требующее объяснений, как если бы речь шла об общем знакомом автора и конкретного читателя. См., например, у Александра Еременко:
Или:
Или:
Благодаря этому приему, по мысли Лоджа, «реальный, исторически-конкретный автор становится на один уровень с его собственными вымышленными персонажами, в то же время обращая внимание на их общую фиктивность» [88] и тем самым проблематизируя онтологическую границу между «литературой» и «жизнью» [89]. Сходно, «как объединение слова и говорящего тела» [90], понимал «литературу существования» и А. Гольдштейн, находивший ее прототипы у раннего Шкловского, поздних обэриутов, Антонена Арто и Варлама Шаламова и представивший в своей эссеистике блестящее осуществление пост- или позднемодернистской версии описанной им самим поэтики.
Парадоксальным выражением постмодернистской «бесформенности» становится и чрезмерная, подчеркнутая сконструированность, искусственность текста. «Мы наблюдаем возвращение к искусственности… Искусственность в новом смысле в меньшей степени представляет собой не столько реализацию таланта и стиля, труда и элегантности, сколько признание того, что стихотворение или картина или спектакль сделаны — построены, придуманы…» — пишет М. Перлофф [91]. «Я всегда отчетливо воспринимал „Улисс“ как книгу, в которой модель открытого текста играет важнейшую роль: но при этом „Улисс“ чрезвычайно структурирован, у него железный каркас. В моей же книге [„Имя розы“] каркас настолько выпячен, что не может не возникнуть впечатления, будто он сделан из папье-маше. Подобно фасадам Лас-Вегаса, если требуется постмодернистская отсылка», — признается Умберто Эко [92]. В русском постмодернизме примеры такой выпяченной конструкции, подчеркивающей ее иллюзорный характер, можно найти в прозе Т. Толстой (роман «Кысь», в котором главы названы буквами дореформенного русского алфавита). Показательна и акцентированная интертекстуальность, как, например, в «Пушкинском доме», романах Б. Акунина, в сочинениях В. Сорокина «Роман» и «Сердца четырех» (да и в его цитатном стиле в целом), книгах Макса Фрая («Абсолютная книга», «Энциклопедия мифов»), в романе Анастасии Гостевой «Притон просветленных» (где текст сопровождается многочисленными цитатами из философских и оккультных книг, вынесенными на поля и комментирующими основное действие), а также в поэзии В. Кривулина и Е. Шварц, в сонетах (сама твердая форма сонета в современной культуре — цитатна) И. Бродского, Т. Кибирова, А. Еременко или в автокомментариях — внутри и вне стихотворений — В. Кальпиди и А. Парщикова [93].