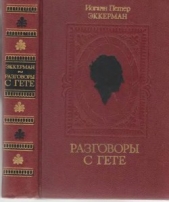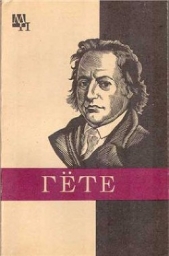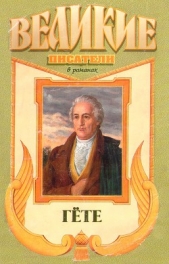Гёте и Пушкин

Гёте и Пушкин читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Аверинцев С.С.
Гёте и Пушкин
Год рождения Пушкина был годом пятидесятилетия Гёте. Культурная конвенция юбилейных торжеств - что же, и Гёте, и Пушкин знали цену конвенциям! - напоминает нам об обстоятельстве очень конкретном и предметном, менее всего риторическом: при упомянутой разнице в полвека Пушкин был младшим современником Гёте и дышал воздухом той же эпохи. Скажем, в 1825-м, когда рождалась пушкинская "Сцена из "Фауста" [1] - нечто среднее между подражанием, пародией и вольной вариацией на гётевскую тему, - немецкому поэту еще оставалось жить более полдюжины небесплодных лет. Когда мы, русские, читаем эккермановскую хронику последнего периода жизни Гёте, идущую день за днем, начиная с десятого июня 1823 года, нам само собой приходит на ум соотносить даты с одновременными моментами жизненного пути Пушкина, - и эта непроизвольная игра отнюдь не бессмысленна. А уж с пересчетом на темп движения русской культуры той поры "веймарская классика" и наш "золотой век" ("поэзия пушкинского круга") и вовсе предстают как явления симультанные. Рискнем задать "детский" вопрос. Гёте в немецком контексте еще при жизни и тем более после своей кончины - чтимый или иконоборчески ниспровергаемый, но всегда "олимпиец", из классиков классик. Мы, русские, воспринимаем Пушкина как "классика" нашей литературы, ее, по известной формуле, "солнце". Что означает такой гелиоцентризм? Почему время для "классиков" как немецкой, так и русской словесной культуры пришло именно тогда - ни раньше, ни позже?
Слово "классик" в каждом европейском языке имеет многообразные коннотации, которые не всегда легко привести к одному знаменателю. С одной стороны, термины "классика" и "романтика" со времен Гёте и Клейста функционируют как антонимы; с другой стороны, "классика" может обозначать просто почтенное литературное наследие, ценность которого проверена временем, так что и от романтического движения остается своя "классика". В первом случае имеется в виду стилистическая характеристика определенных творений, в другом - оценочная. А как происходит в тех случаях, когда слово "классик" употребляется par excellence в приложении к одному автору - к Данте у итальянцев, к Шекспиру у англичан, к Гёте у немцев, к Пушкину у русских? Разумеется, чисто оценочный момент здесь совершенно очевиден. (В качестве одного из неисчислимых примеров можно привести формулу, вынесенную в заглавие статьи П. В. Палиевского "Пушкин как классическая мера русского стилевого развития" [2]). В наши времена деконструкций нет ничего проще, как акцентировать утилитарный, а потому более или менее произвольный характер признания за Поэтом такого "классического" статуса в рамках той или иной национальной мифологии/идеологии. Однако не будем спешить соглашаться с такой редукцией феномена классика. Во-первых, позволю себе, как в старые добрые времена Цицерона, сослаться на consensus gentium, т. е. на согласие эпох и культур; из самой обоснованной критики каждой из попыток ответить на вопрос, почему Гёте или Пушкин есть классик, не вытекает еще, что самый вопрос каждый раз ставится абсурдно. Во-вторых, в облике наиболее признанных классиков европейских литератур самое непосредственное впечатление улавливает какие-то общие черты. Попробуем разобраться, в чем состоят хотя бы некоторые из них. Как кажется, для явления "классика" необходимо требуется достаточно острое напряжение между статикой традиции и динамикой нового, не допускающее однозначного решения ни в ту, ни в другую сторону. Данте стоит между Средневековьем и Ренессансом, Шекспир - между Ренессансом и Барокко, наконец, Гёте и Пушкин - между ancien regime и капиталистическим развитием Европы XIX века; при всем различии в их хронологической локализации есть каждый раз что-то общее: положение между очередной стабилизацией сословных ценностей и очередным убыстрением капиталистического прогресса [3]. Марксистский дискурс советского, и не только советского, типа основательно скомпрометировал для нас, русских, употребление при разговоре о темах по сути своей эстетических или, еще точнее, философско-антропологических, как "классичность" классического, таких категорий, как, скажем, "капитализм". Но очевидно, что динамика новоевропейских капиталистических отношений (как и раньше торговая природа греческого демократического полиса!) может и должна рассматриваться не просто как экономическое "бытие", которое, по марксистскому тезису, определяет "сознание", но скорее - в неразделимом единстве с демократией, с так называемым Secular City и т. п. - как один из ориентиров философско-антропологического плана. Для характеристики этого широкого контекста историко-литературного перелома отметим хотя бы в качестве курьеза, что именно у Гёте и Пушкина, классичнейших из классиков, мы неожиданно встречаем прямо-таки профетический для их времени интерес к феномену американизма и, шире, к капиталистической демократии как проблеме именно антропологической и аксиологической.У Гёте в контексте полемики против романтизма взгляд на неромантический Новый Свет более позитивный:
Америка, тебе приходится лучше, чем нашему ветхому континенту: у тебя нет ни развалившихся замков, ни базальта. Твоего нутра не терзает посреди живой современности ненужное воспоминание и бесполезная распря. Так воспользуйся везением! И когда твои дети сочинительствуют, Боже их сохрани от [романтических!] историй про рыцарей, про разбойников, про привидения. - "Кроткие ксении", 1820).
У Пушкина мы встречаем выпады, но и очень живой интерес: "С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром... гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. ...С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую - подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество..." Пушкин упоминает Токвиля, автора славной книги, в этой своей рецензии на "Записки" Джона Теннера в "Современнике" 1836 года. Надо иметь в виду, что первый том тогда только что появился, а второй вышел уже после кончины поэта (Tocqueville Alexis Charles de. De la democratie en Amerique. I - II, 1835 - 1840). Простое упоминание книги Токвиля в тот момент само по себе нетривиально и свидетельствует о незаурядном, сверхобычном любопытстве к предмету.