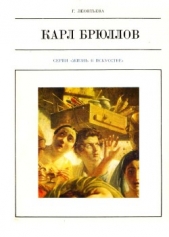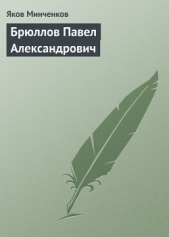Фантики
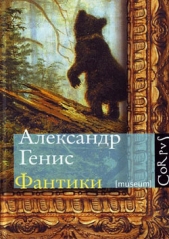
Фантики читать книгу онлайн
Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она – произведение искусства. «Утро в сосновом бору», «Грачи прилетели», «Явление Христа народу» – эти и другие полотна давно превратились в незыблемые вехи русской культуры, так что скользящий по ним глаз мало что отмечает, помимо их незыблемости. Как известно, Александр Генис пишет только о том, что любит. И под его взглядом, полным любви и внимания, эти знаменитые-безвестные картины вновь оживают, превращаясь в истории – далекие от хрестоматийных штампов, неожиданные, забавные и пронзительные.
Александр Генис – журналист, писатель и культуролог. Среди его самых известных книг – «Вавилонская башня», «Американская азбука», «Довлатов и окрестности», «Шесть пальцев», а также «Родная речь», «Русская кухня в изгнании» и другие вещи, написанные в соавторстве с Петром Вайлем. Творчество Гениса ускользает от жанровых определений, но всегда сочетает глубину содержания с неотразимым обаянием формы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Александр Генис
Фантики

Билет на Титаник
Брюллов

Карл Брюллов
Последний день Помпеи. 1830–1833
Холст, масло. 465,5 х 651 см
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург
Брюлловская репродукция служила бесспорным украшением унылого учебника “История древнего мира”, иллюстрировавшего свой предмет подробной картиной разрушения этого самого мира. Не скрою, что больше всех мне, как и другим пятиклассникам, нравилась обнаженная грудь лежащей на переднем плане женщины. Тогда я еще не знал, что аллегории всегда позируют топлес. Позже мне довелось обнаружить, что Гоголь смотрел туда же, куда и я, но только еще пристальнее: “Ее дышащая негою и силою грудь обещает роскошь блаженства”. Если вспомнить, что речь идет о трупе, то глагол настоящего времени может смутить читателя. “Но не автора”, – говорят критики, считающие, что именно с покойницы Брюллова Гоголь списал прекрасную панночку из “Вия”.
Картина нравилась и неиспорченным зрителям. Бенуа, ревниво описывая “ярмарочный апофеоз” этого полотна, говорил, что Брюллов, как второй Суворов, завоевал Италию: в Риме художника бесплатно пускали в театр, в Милане ломились на выставку его картины. В Петербурге ее встречали два оркестра. “Это не картина, – сказал Вальтер Скотт, просидев полдня перед холстом, – а целая эпопея”. Ее, эпопею, написал другой англичанин – Бульвер-Литтон, но так велеречиво и скучно, что его имя носит конкурс на худшую книгу. Брюллов в этом виноват лишь отчасти. Он увековечил все пороки академической живописи, внедрив свой холст в состав русского генофонда:
И стал “Последний день Помпеи”
Для русской кисти первый день.
Это тем удивительнее, что, глядя на холст, мы никогда не узнаем в художнике русского. И правильно сделаем, потому что выходец из французско-немецкой семьи живописцев Карл Брюлло получил букву “в” в подарок от царя, в чьи бескрайние владения входила даже азбука. В отличие от моего любимого Венецианова, который писал вполне ренессансных, но все-таки отечественных крестьянок, в “Последнем дне Помпеи” не было ничего народного – как в Петербурге. Собственно, этим оба шедевра и пленяли Россию. Не меньше, чем остальным европейским империям, ей нужен был античный фундамент. Характерно, что картина изображала не родную византийскую, а чужую – римскую – античность. В этом можно увидеть ритуальное, как в “Маугли”, обращение к Западу: “Мы и ты – одной крови”, – говорил Брюллов, протягивая свой холст, словно билет на “Титаник”. Помпеи он изобразил с любовью и археологическими подробностями, включающими найденную при раскопках колесницу. Сделав темой картины прощание с цивилизацией, Брюллов перечислил все, что ее составляет. Катастрофа губит то, что делало нас людьми, жизнь – стоящей, прошлое – достойным слез. Каждая скульптурная группа с картинной выразительностью и трогательной педантичностью воплощает ум и чувства. Справа – отвага, романтическая любовь и сыновья почтительность. Слева – семейные узы, а также коммерция, наука, ремесло и искусство, представленное самим Брюлловым (красивый юноша с ящиком красок на голове). По краям гибнут бастионы цивилизации – война и религия: с одной стороны рушатся крепостные стены, с другой валятся мраморные кумиры. Но предназначенный для главного героя центр картины Брюллов демонстративно оставляет пустым. Только вдалеке мы с трудом различаем понесших коней – Стихию, оставшуюся без узды. Если прищуриться – а только так и следует исследовать композицию, – картина напоминает широкую букву “V”, но это знак триумфа не человека, а природы. Ни Марс, ни Венера не могут устоять перед мощью первоначальных – хтонических – сил. Они прячутся не в небе олимпийцев, а в чреве земли, из которой растут не города, а вулканы.

За 17 лет до своего последнего дня Помпеи пережили землетрясение. Но оно только способствовало украшению города. Землетрясение – переустройство мира путем его разрушения, а не поглощения. Зато вулканическое извержение напоминает нашествие равняющего всех с собой плебса, вроде обезумевших сторонников Спартака или, если на то пошло, “Динамо”. Вулканы и в самом деле поразительны. Вблизи я видел только один, на Гавайях. Беспрестанно извергаясь, он годами увеличивает территорию Соединенных Штатов Америки, обходясь без дипломатии и солдат. У Брюллова, однако, вулкан невидим. Это – просто сила. Неутомимая, как притяжение, могучая, как пар, непредсказуемая, как рок. Изображая ее, художник с школярской точностью воспроизвел на холсте абзац очевидца: “В черной страшной туче, – писал Плиний-младший, – там и сям вспыхивали и перебегали огненные зигзаги, и она раскалывалась длинными полосами пламени, похожими на молнии, но большими, чем они”.
Получившийся результат тот же Бенуа называл цветовой какофонией. И тот же Гоголь писал, что в наш век “всякий торопится произвести эффект, начиная от поэта до кондитера”. (Я, кстати сказать, знаю в Литтл-Итали старинную кондитерскую “Везувий”, где можно купить ромовую бабу с кратером, извергающим миндаль.) Конечно, “Последний день Помпеи” – картина противоестественных эффектов. Но вдохнуть жизнь в аллегорию, как вернуть басню в зверинец, – непосильная для академического искусства задача (то ли дело Гоген и Кафка). Требовать жизненности от брюлловского полотна – все равно что ждать ее от оперы. Одна из них, с тем же названием – “L'ultimo giorno di Pompei”, послужила Брюллову моделью. У образца художник позаимствовал главный соблазн и непременную условность оперы – арию. Только она умеет намертво останавливать речитатив действия, которое никуда не денется, пока тенор не вытянет последнее си.

Сочиняя свою арию, Брюллов тоже остановил мгновение, чтобы запечатлеть его во всех антикварных подробностях. На этой окоченевшей картине с вечно падающими, но не упавшими статуями всякое движение обманчиво. Художник, которому еще не приходилось соревноваться с камерой, исключал любую случайность, неизбежно присущую моментальному снимку. Брюллов не соперничал с натурой, а собирал ее заново, освещая сцену произвольным светом разума, который автор, как зенитчик – прожектор, направляет, куда ему нужно. Не удивительно, что столь основательно снаряженная картина исчерпала сюжет, но не тему. Античность Брюллова слишком самодостаточна и самоуверенна – в те времена всякое знание начиналось в Риме, а кончалось битвой при Ватерлоо, вместе с ампиром. Чтобы добраться до античности, искусству нужно было дождаться Серова, у которого царевна Навсикая полощет стираное белье на берегу еще совсем пустого моря. Или Феллини, который в “Сатириконе” показал римлян пришельцами, которых мы никогда не поймем, как муравьев, богов или кошек.


И конечно, у Брюллова нет самих Помпей, курортного местечка с виллами без окон, с борделями, простодушно зазывавшими посетителей откровенным прейскурантом, с прачечными, где рабы-фулоны отбеливали мочой патрицианские тоги. Меньше всего Брюллова интересовало то, что гипнотизирует нас – чужая обыденность. Ведь этот захолустный город прославился лишь тем, что единственным знаменитым днем в его истории был последний. Этот парадокс не может не волновать. Во всяком случае, когда бы я ни пришел в Русский музей, у “Последнего дня Помпеи” можно встретить какого-нибудь немолодого, настрадавшегося от коммунальных неудобств зрителя. “Да, жили люди”, – говорит он сам себе, отходя от картины с горьким вздохом.