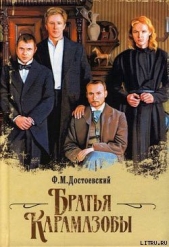"Братья Карамазовы" в призме исихасткой антрополгии

"Братья Карамазовы" в призме исихасткой антрополгии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» В ПРИЗМЕ ИСИХАСТСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Преамбула: «Карамазовы», Старцы и исихазм
О «Братьях Карамазовых» давно уже написано всё, что только возможно написать. Последний роман Достоевского рассматривали и изучали во всех аспектах, со всех сторон, под всеми мыслимыми углами зрения. Сегодня, начиная о нем размышлять и говорить, наивно рассчитывать на «новое слово», на открытие таких содержаний, которые до сих пор еще никогда и никем не замечались. Но при всем том, повсюду в мире вновь и вновь обращаются к этому роману, и все мы тоже собрались здесь, чтобы обсуждать его. Противоречия в этом, однако, нет. В мире уже давно поняли, что к «Карамазовым» и к явлениям, им подобным, люди будут обращаться всегда, но уже не столько затем, чтобы сделать в них новые и необычайные открытия, сколько в надежде с их помощью открыть и понять самих себя. Именно такова роль, а, может быть, даже и дефиниция явлений классики: это те вехи или созвездия в космосе культуры, по которым каждая эпоха и человек каждой эпохи определяют свое собственное положение в этом космосе, самоопределяются, и в этом самоопределении обретают и формируют себя. Создание собственной рецепции феноменов классики, установление отношений с ними входит в работу формирования историко-культурной идентичности эпохи, равно как формирования личности отвечающего ей человека.
Поэтому каждое время, каждое культурное сообщество обращаются к феноменам классики по-своему. Они ставят им собственные вопросы, из числа тех, что наиболее актуальны для них, важны для их самоопределения. Выбирая мою тему, я бы хотел оставаться в кругу этих насущных вопросов, и я спрашиваю: Что же важно в «Карамазовых» для нашего времени, для сегодняшнего человека? Каковы их самые острые, самые существенные вопросы, ответ на которые они ищут всеми средствами, в том числе, и перечитывая этот роман? Как говорит нам сегодняшняя ситуация – российская и глобальная, в обществе, культуре, гуманитарной науке – фокус проблем, всё с большею очевидностью, оказывается сосредоточен в происходящем с человеком, в антропологии. Это происходящее стало носить характер резких и кардинальных изменений, которые никак не укладываются в представления прежней, классической антропологии. Человек обнаруживает непреодолимую волю и тягу к экстремальному опыту любых видов, включая виды опасные, асоциальные, трансгрессивные, к радикальным экспериментам над собой. Обретают популярность проекты покончить вообще с Человеком, превратив его в какое-либо другое существо, Постчеловека. В такой ситуации антропологическая рефлексия разбужена и активизирована, идут интенсивные поиски новой антропологии – и, соответственно, в отношениях современной культуры с Достоевским и его главным романом на первый план выступает антропология «Карамазовых». Отнюдь не всегда было так. Серебряный век, с упоением погружавшийся в Достоевского, искал в нем метафизику, богословие, истово стремился найти у него пророчества, социальные и религиозные проекты… Теперь всё это отошло. Сегодняшнего человека, с беспокойством обнаруживающего, что облик его непонятно и неподвластно ему меняется, в первую очередь, занимает облик человека в романе, воплощенная в нем антропологическая модель.
Но как извлечь из романа его антропологическую модель? Этот методологический вопрос не ставился Серебряным веком, он не существовал для Бердяева, который объявил прямо, что романы Достоевского суть «антропологические трактаты» – и соответственно их прочитывал. Но когда он писал это, в 1918 г., в России уже зарождался формализм, для которого отношение к роману как к трактату было вопиющим филологическим невежеством. Тенденция в филологии, начатая русским формализмом, закрепилась надолго; установка исключительной сосредоточенности на феноменах художественной формы, письма, чтения, пройдя целый ряд этапов, достигла кульминации в постмодернизме. Сегодня она исчерпалась наконец, однако все уже успели прочно усвоить, что путь к любым выводам о любом тексте лежит лишь через анализ письма этого текста, его поэтики. И, в частности, мы не можем извлекать выводы об образах «Карамазовых», об их антропологическом смысле, читая и истолковывая роман «прямо и непосредственно», по его содержанию. Необходимо обратиться к его поэтике, увидеть принципы его письма – чтобы на их основе определить адекватные правила его чтения.
Путь к антропологии через призму поэтики оказывается, однако, не столь сложен, если опереться на общие положения этой поэтики в реконструкции Бахтина. Сегодня эти положения стали классическими, и я не вижу причин отвергать их (хотя в целом и не являюсь адептом теорий Бахтина). Дискурс романов Достоевского – и «Карамазовых», пожалуй, в особенности, – имеет главную отличительную черту, которая очевидна и общепризнанна: это – всецело личностный, персонализованный дискурс. Он складывается из множества (суб)дискурсов, каждый из которых есть речь, голос определенной личности, определенного человеческого сознания. В художественном космосе романа налицо тождество:
личность (лицо) = сознание = голос = персональный дискурс,
и весь этот космос состоит из таких персональных дискурсов, служащих его универсальными и единственными строительными элементами. Каждый персональный дискурс-голос развивается, «ведет свою партию» свободно и автономно, независимо от всех других, однако не изолированно от них, а с ними взаимодействуя, собеседуя. Так возникает знаменитая бахтинская конструкция романного мира как мира «полифонии», многостороннего диалога свободных и равноправных личностей-голосов. Отлично соответствуя роману Достоевского, она, разумеется, не соответствует вообще всякому роману или тем паче художественному тексту, где употребляются, наряду с личностными, разнообразные иные дискурсы (скажем, идейные, натурные, фабульные и т.п.). Для нас же эта конструкция важна, прежде всего, тем, что она несет в себе прямой и простой ответ на наш методологический вопрос.
Художественный космос «Карамазовых», их система поэтики – личностны, построены на личностных элементах; но, тем самым, они и антропологизированы, антропологичны. Универсальный элемент системы поэтики, «голос-личность-сознание», есть и антропологический элемент, он репрезентирует определенного человека (хотя способ репрезентации вызывает вопросы, в нем можно находить и неполноту, и другие недостатки). И, благодаря этому, мы можем реконструировать антропологию романа, обращаясь к рассмотрению таких элементов и трактуя каждый из них как «образчик антропологии», своего рода «персональную» или «индивидуальную» антропологию. Поочередно описывая и анализируя эти образчики, мы можем постепенно восстановить, собрать из получаемых «индивидуальных антропологий» цельный антропокосмос «Карамазовых» – дабы затем попытаться его осмыслить и сопоставить ему некоторую антропологическую модель.
Итак, наметилась определенная методика реконструкции антропологии «Карамазовых» – как суммы, ансамбля индивидуальных антропологий, отвечающих голосам-сознаниям романного мира. Выскажем теперь важный тезис: к работе реконструкции и интерпретации антропокосмоса романа сам роман дает нам путеводную нить, точные направляющие указания. Было всегда известно и очевидно, что в мире романа присутствует одна инстанция, наделенная особым авторитетом, особыми этическими и аксиологическими прерогативами по отношению ко всему этому миру. Она входит в роман уже в его вводной экспозиции, и здесь же, сразу же обнаруживается ее особый статус. Экспозиция носит название «История одной семейки», и главы ее посвящаются по порядку Карамазову-отцу и его трем сыновьям; но после этих глав, имеющих и соответственные «семейные» заглавия, неожиданно следует еще заключительная: «Старцы», говорящая о монастыре возле города Карамазовых и о подвизающихся там старцах – высокопочитаемых аскетах, «видеть и послушать которых стекались… богомольцы толпами со всей России» (14,26) [2]. Почему же «Старцы» включены в «Историю одной семейки» – часть особую, где еще не вступают голоса-лица, а только Рассказчик рисует исходную панораму, давая ей также нравственную оценку (одна из функций его голоса в романе)? Как сразу подчеркивает Рассказчик, у старцев – высшая нравственная и духовная власть (идущая, разумеется, от Бога); и соответственно, их присутствие внутри «Истории одной семейки» есть ясное указание на то, что в эту историю входит, имманентно и неотъемлемо, инстанция нравственного и духовного суда, которая и явлена в старцах. Стоит еще отметить, что положение этой инстанции – в точном согласии с бахтинской концепцией вненаходимости: монастырь и старцы – вне города, однако невдалеке от него, на расстоянии прямого общения и влияния. Так открывается роман – а затем, уже в ходе его действия, его композиция вновь, еще раз утверждает эту особую роль старцев: ибо им целиком отводится книга VI, «Русский инок», завершающая первую половину романа. Эта книга, ключевая и сердцевинная в структуре романа [3], без малого вся изъята из его сюжетного течения и отдана аскетическим текстам, житию и поучениям старца Зосимы. Уже этим композиционным приемом недвусмысленно и выразительно демонстрируется романный статус старцев, статус высшего духовного, нравственного и ценностного авторитета; но, помимо того, этот статус многократно закрепляется и «прямым текстом», обычными вербальными средствами.