Искусство частной жизни. Век Людовика XIV
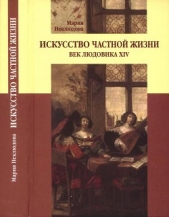
Искусство частной жизни. Век Людовика XIV читать книгу онлайн
В то время, когда Людовик XIV возводил Версаль, его современники пытались создать новый образ жизни, противостоявший Версалю. Такой альтернативой для них стала сфера частных отношений — идеальное пространство общения, где человек сам конструировал свою идентичность. Эти опыты производились не только в жизни, но и на бумаге, благодаря чему у читателя этой книги есть двойная возможность познакомиться с тем, как современники Людовика XIV представляли себе искусство частной жизни, и расширить свои представления о французской литературе XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Надгробное слово Генриетте-Анне Английской» было опубликовано в Париже в 1670 г., и несколько раз перепечатывалось с более ранним «Надгробным словом Генриетте-Марии Французской».
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!
(Еккл., 1:2).
Монсеньор, [353]
Итак, мне выпал жребий отдать сей погребальный долг величайшей и могущественнейшей принцессе Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской. Ей, столь прилежно внимавшей, когда я отдавал этот долг королеве, ее матери, [354] вскоре предстояло стать предметом похожей речи; и на сие прискорбное служение назначен мой печальный глас. О суета! О ничтожество! О смертные, своей судьбы не ведающие! Думала ли она об этом десять месяцев назад? А вы, господа, предполагали ли вы, когда она проливала здесь слезы, что вскоре соберетесь, дабы оплакивать ее? Принцесса, достойный предмет восхищения двух великих королевств, разве Англия не довольно оплакивала ваше отсутствие, чтобы теперь быть вынужденной лить слезы о вашей кончине? А Франция, с такой радостью узревшая вас в сиянии нового блеска, разве не сулила вам иных торжеств и триумфов, когда вы возвратились из достославного путешествия, принесшего вам столько славы и прекрасных надежд? «Суета сует, — все суета». Это единственное слово, мне остающееся, единственное рассуждение, в столь поразительном происшествии дозволенное горем праведным и чувствительным. Поэтому я не перелистывал священные книги в поисках текста, который бы подходил к принцессе. Без исследования и поиска я взял первые слова, предлагаемые Екклесиастом, в которых говорится о суете, хотя, в моих глазах, недостаточно. В одном несчастье я хочу оплакать все злоключения рода человеческого, в одной смерти заставить увидеть гибель и ничтожество всего человеческого величия. Этот текст, пригодный для всех сословий и для всех дел нашей жизни, особо подходит к моему плачевному предмету: никогда земные суеты не бывали столь зримо явлены и столь громко изобличены. Нет, после увиденного нами здоровье — пустой звук, жизнь — не более чем сон, слава — видимость, а милости и удовольствия — опасные развлечения; все в нас суетно, за исключением искренней исповеди перед Господом в своей суетности и решения презирать свою сущность.
Но истинно ли я говорю? Неужто человек, созданный Господом по собственному подобию, — не более чем тень? Неужто то, что искал Иисус Христос, сойдя с небес на землю, и что считал возможным, не запятнав себя, искупить ценой собственной крови, — ничто? Признаемся в заблуждении. Без сомнения, печальное зрелище человеческой суетности сбило нас с пути, а надежды, внезапно оборванные кончиной принцессы, толкнули на крайности. Не следует дозволять человеку презирать себя целиком, из страха, что вместе с безбожниками он посчитает жизнь всего лишь игрой, где царствует случай, и, без разбора и без проводника, пустится вслед за слепыми желаниями. Именно потому Екклесиаст, начав свой божественный труд с процитированных мной слов и испещрив каждую страницу презрением к вещам человеческим, желает указать людям на нечто более надежное и заключает свою речь такими словами: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл., 12:13–14). Так, в человеке все суетно, если взглянуть на то, что он дает миру; но, напротив, все важно, если мы задумаемся над его долгом Богу. Скажем еще: в человеке все суетно, если взглянуть на ход его земной жизни, но все ценно, все важно, если мы поразмыслим над пределом, к которому она ведет, и отчетом, который там предстоит дать. Подумаем сегодня, глядя на сей алтарь и на сию гробницу, над первыми и последними словами Екклесиаста, одно из которых показывает ничтожество человека, а другое возвещает о его величии. Пусть гробница сия убеждает нас в нашем ничтожестве, но пусть сей алтарь, на котором за нас всякий день свершается столь драгоценная жертва, научит нас нашему достоинству. Оплакиваемая нами принцесса будет верным подтверждением и того, и другого. Взглянем же на то, что похитила у нее внезапная кончина, взглянем на то, что принесла ей святая смерть. И мы научимся презирать то, что она без труда оставила, чтобы почтительно приникнуть к тому, что она приняла с таким пылом, когда ее душа, очищенная от всех земных чувств и полная небес, к которым уже прикасалась, узрела свет. Вот истины, о которых я намереваюсь рассуждать, показавшиеся мне достойными быть предложенными столь великому принцу и этому блистательнейшему в мире собранию.
«Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать» (2 Царств, 14:14), — молвит женщина, чью мудрость хвалит Писание во второй Книге Царств. И правда, мы все похожи на утекающую воду. Какими бы гордыми отличиями ни льстили себе люди, их исток един, и этот исток мал. Их годы набегают, как волны, и беспрестанно утекают; и вот, произведя чуть больше шума или забежав чуть дальше, все мешаются в бездне, где не отличить ни принцев, ни королей, ни других гордых наименований, которые выделяют людей, — так прославленные реки утрачивают имя и славу, впадая в океан вместе с неизвестными речушками.
Но согласимся, господа, если что-то способно поднять людей над их природной слабостью, если, несмотря на общий для всех исток, можно провести прочное и основательное различие меж теми, кого Господь создал из одного праха, то в мире было не найти никого более выдающегося, нежели та, о которой я веду речь. Все, что способно возвысить принцессу — не только рождение и фортуна, но и величие духа, — было собрано в Мадам, а затем уничтожено. С какой стороны ни прослеживать ее славное происхождение, везде я нахожу одних королей, и мой взор ослеплен блеском высочайших корон. Я вижу королевский дом Франции, вне всяких сравнений, величайший во всем мире, которому без зависти уступают первенство могущественнейшие дома, стремясь извлечь свою славу из этого источника. Я вижу королей Шотландии, королей Англии, которые на протяжении веков правили одним из воинственнейших народов мира, и основанием их власти была более отвага, нежели почтение к скипетру. Но у этой принцессы, рожденной для трона, ум и сердце были выше ее происхождения. Несчастья ее дома не смогли сломить ее в ранней юности, и с тех пор мы зрели в ней величие, ничем фортуне не обязанное. Скажем с радостью, что небо каким-то чудом вырвало ее из рук врагов короля, ее отца, чтобы подарить Франции: [355] дар драгоценный, неоценимый, когда бы обладание им было более долгим! Но почему память об этом прерывает мою речь? Увы! Стоит нам остановить взор на славе принцессы, как тут же все омрачается тенью смерти. О смерть, уйди из наших мыслей, дай нам ненадолго обмануть горе воспоминаниями о радости! Вспомните, господа, какое восхищение вызывала английская принцесса при дворе. Ваша память лучше представит вам ее черты и несравненную мягкость, чем могут сделать мои слова. Она росла, осыпаемая благословениями народов, и годы приносили ей лишь новую прелесть. Королева, ее мать, чьим утешением она всегда была, любила ее так же нежно, как Анна Испанская. [356] Как вам известно, господа, Анна считала принцессу достойной всего самого высокого. И, наделив нас королевой, набожностью и прочими королевскими добродетелями не уступающей репутации своей блистательной тетки, [357] она пожелала соединить в своей семье все самое высокое и видеть Филиппа Французского, своего младшего сына, супругом принцессы Генриетты. Хотя король Англии, чье сердце столь же велико, как и мудрость, знал, что его сестра, к которой сваталось множество королей, могла почтить собою трон, он с радостью дозволил ей занять второе место во Франции, ибо, в силу достоинств этого великого королевства, оно равно первым местам прочих стран мира.

























