Искусство частной жизни. Век Людовика XIV
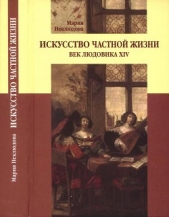
Искусство частной жизни. Век Людовика XIV читать книгу онлайн
В то время, когда Людовик XIV возводил Версаль, его современники пытались создать новый образ жизни, противостоявший Версалю. Такой альтернативой для них стала сфера частных отношений — идеальное пространство общения, где человек сам конструировал свою идентичность. Эти опыты производились не только в жизни, но и на бумаге, благодаря чему у читателя этой книги есть двойная возможность познакомиться с тем, как современники Людовика XIV представляли себе искусство частной жизни, и расширить свои представления о французской литературе XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
М. С. Неклюдова
Искусство частной жизни
Век Людовика XIV
Часть первая
Изобретение частной жизни
Эта книга не о том, как жили люди в царствование Людовика XIV. Об условиях их существования нам известно довольно много, особенно если речь о Париже. Например, по ночам город освещался приблизительно шестью с половиной тысячами фонарей, висевших на пересечениях улиц. Их зажигали в сумерках, и фитиля хватало где-то до полуночи, затем до рассвета все погружалось во мрак. В середине 1680-х гг. Париж насчитывал 23 272 дома, из чего историки делают вывод, что численность его населения приближалась к полумиллиону, в среднем по двадцать человек на жилое здание. [1] Итого по одному фонарю на четыре дома и на их восемьдесят обитателей. Конечно, не все фонари горели и не в каждом доме жило по двадцать человек.
А еще в середине XVII в. на оживленных перекрестках Парижа были установлены почтовые ящики для обмена письмами в пределах города. Чтобы ими воспользоваться, надо было зайти во Дворец правосудия и там за одно су купить бланк, помеченный особым знаком. На нем указывали адрес и дату и использовали его в качестве конверта. В назначенный час ящики открывали и письма разносили по городу.
Откуда мы это знаем? Из разных источников. Счет домам вели городские власти, об освещении улиц с восхищением отзывались путешественники, о почтовых ящиках рассказал один из героев этой книги. На полях своего же старого письма он меланхолически приписал: «Похоже, что через несколько лет уже никто не будет знать, что такое ящик для писем», — и объяснил происхождение и суть этого изобретения. Все вместе складывается в общую картину жизни парижанина середины XVII в. Вернее, эти фрагменты информации мы превращаем в историю городского быта, не тревожась о том, что данные о домах, фонарях и почтовых ящиках получены из разнородных документов. В этом случае для нас важно, что все они заслуживают доверия.
Но для понимания механизмов развития культуры XVII в. небезразлично, какую информацию люди того времени хотели сообщить о себе последующим поколениям, а какую мы получаем помимо их воли. Так, власти Парижа вели учет городским постройкам из практических целей, прежде всего для подсчета налоговых сборов. Английский путешественник интересовался системой освещения Парижа, считая, что она может послужить примером для Лондона. Иначе обстояло дело с Полем Пелиссоном, который, комментируя собственное письмо, обращался к будущим читателям. У него было ощущение, что тривиальная деталь окружавшей его действительности может стать предметом истории.
Случай Пелиссона напоминает о том, что любой исторический документ сочетает в себе объективные данные (почтовые ящики действительно присутствовали в Париже середины XVII в.) и субъективные намерения (причины, по которым Пелиссону вздумалось о них поведать). Если вынести последние за скобки, то наши представления о повседневной жизни прошлых эпох обретают сходство с музейной экспозицией: много подлинных предметов и мало людей. Или, как в голливудских фильмах, историческая действительность становится декорацией для современных конфликтов и характеров. Один исследователь как-то заметил, что нам несложно понять образ мыслей Вольтера, ставший плотью и кровью западной культуры, однако мы с трудом можем представить себе бытовые условия жизни философа. В этом, безусловно, есть большая доля истины. Обыденный мир первой половины XVIII столетия для нас экзотичен, а его интеллектуальная составляющая — тривиальна. Скажем, борьба Вольтера за религиозную толерантность по сей день не утратила актуального звучания и потому кажется сама собой разумеющейся. В таком разобщении образа мыслей и образа жизни таится серьезная методологическая опасность. Скрупулезно восстанавливая бытовую обстановку вольтеровского времени, мы рискуем поместить в нее современного борца за права человека.
Теперь раскроем скобки: почему Пелиссон решил сделать запись о почтовых ящиках? Возможно, из хорошо понятной нам ностальгии по уходящим вещам. Хотя тут надо учитывать, что разные исторические эпохи порой по-разному оценивают одни и те же эмоции. Во французской культуре XVII в. ностальгия имела устойчивую репутацию стариковского чувства, связанного с упадком физических и умственных сил. Как писал один из современников Пелиссона, в старости «мы страстно привержены всему, что было создано в прошлом, и презираем создания своего времени <…>. В этом грустном и бессчастном возрасте мы склонны приписывать вещам недостатки, порожденные нашей тоской; а когда сладостное воспоминание обращает нашу мысль от настоящего к минувшему, то мы готовы видеть приятность в вещах, ее не имевших, просто потому, что они напоминают о юности, когда все нам было мило». [2] Таким образом, ностальгия — это не только удовольствие от воспоминаний, но и нарушение способности к здравому суждению. Под ее влиянием человек перестает видеть истинное положение вещей, что с точки зрения эпохи являлось непростительным интеллектуальным изъяном. Поэтому, даже садясь писать мемуары, человек XVII в. редко сознавался, что испытывает тоску по прошлому.
Зайдем с другой стороны и попробуем оценить замечание Пелиссона не по аналогии с нашей культурой, а в контексте его собственной. Он происходил из протестантской семьи, образование получил в университете Тулузы и, следуя фамильной традиции, начал карьеру на юридическом поприще. Так что умение в нескольких словах разъяснить устройство городской почтовой службы можно отнести на счет его профессиональной подготовки. Помимо этого университетское образование в целом прививало филологические навыки чтения и комментария текстов. Столкнувшись с устаревшим или вышедшим из употребления словом, Пелиссон мог машинально, по устоявшейся привычке, сопроводить его глоссой. Заметим, что его внимание было поглощено скорее названием, чем вещью. Он ничего не говорит о том, из чего были сделаны ящики для писем, какого они были цвета или формы. В результате мы прекрасно представляем себе принцип работы этого изобретения, но без привлечения дополнительного материала не сможем составить его зрительный образ.
Здесь мы вплотную подходим к тому, что называется историей ментальностей, — к изучению коллективных представлений, бессознательных или полуосознанных. История ментальностей помогает нам очеловечить мир аутентичных вещей и понять психологические закономерности их расположения. В частности, почему одни из них оказывались «видимыми» для современников, а другие попадали в своеобразную мертвую зону. Или почему их замечали не все. Ведь не только Пелиссону были досконально известны функции ящика для писем. И деловые хлопоты, и светское общение влекли за собой активную переписку. Скажем, к услугам почты прибегали многие известные Пелиссону дамы, которые едва ли не каждый день посылали записки друзьям, родственникам и знакомым. Тем не менее им вряд ли пришло бы в голову описывать работу почтовой службы или фиксировать значение устаревающего слова. Не потому, что такого рода задача была им не по силам. Но женское образование не предполагало изучения древних языков, и, соответственно, сопутствующие филологические навыки оставались для них чуждыми. Вместо того чтобы составлять комментарий, они с большей степенью вероятности могли бы попытаться пустить в ход какой-нибудь неологизм, блеснуть модным словечком.
Совокупность этих факторов помогает нам понять образ мыслей определенной социокультурной группы, к которой принадлежал Пелиссон. Ее численность была не столь велика, учитывая такие параметры, как университетское образование и юридическая карьера, жизнь в Париже и активное светское общение. Далее в игру вступают более трудноуловимые для нас дифференциации: к примеру, религиозные чувства нашего героя. В записях, которые приведены в этой книге, нет ни намека на его принадлежность к «так называемой реформированной церкви» (как было принято писать в официальных документах того времени), хотя в психологической важности этого факта сомневаться не приходится. Как и в том, что им была обусловлена значительная часть повседневного существования Пелиссона. Будучи протестантом, он подчинялся иному укладу, нежели его друзья-католики: не ходил к мессе, не имел исповедника, не соблюдал праздники и так далее. В середине XVII в. эти различия были достаточно рутинными и, скорее всего, считались в порядке вещей. Их вторичная актуализация произошла в 1685 г. после отмены Нантского эдикта, когда французским протестантам пришлось выбирать между переходом в католичество и каторгой: впрочем, Пелиссон, как и многие его современники, успел добровольно вернуться в лоно «истинной церкви» (еще один канцеляризм эпохи). Однако даже в самом рутинном виде эти отличия должны были оказывать влияние на образ мыслей нашего героя.

























