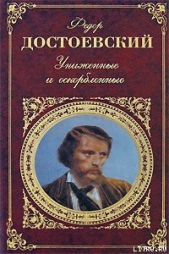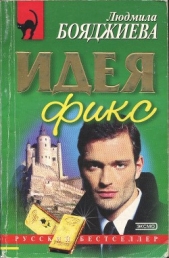Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы

Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы читать книгу онлайн
Известный петербургский писатель-историк приоткрывает завесу над «делом царевича Алексея», которое предшествовало событиям 1730 года, важнейшего периода русской истории, в котором обнаруживаются причины последующих исторических катаклизмов, захлестнувших Россию и разразившихся грандиозной катастрофой революции 1905 года. В это время у России появился шанс — выбрать конституционное правление и отказаться от самодержавия.
12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).
В оформлении лицевой стороны обложки использована картина И. И. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ленин гениально воспользовался этим эффектом.
Милюков не хотел его учитывать. Керенский занимал промежуточную позицию — вполне гибельную именно по причине ее промежуточности.
Оболенский, вспоминая Милюкова, очертил вообще тип подобного политика, для русского реформаторства характерный, что во многом объясняет постоянную победу то охранительской, то революционной идеи над идеей реформаторской.
С юности выработав в себе прочное мировоззрение и в соответствии с ним построив свои политические идеалы, он всю жизнь честно стремился к их достижению, но его холодный ум не только не был в состоянии увлекаться иллюзиями, которыми увлекались другие, но с этими увлечениями он попросту не считался. Он шел к своим целям теми путями, которые подсказывались ему оценкой объективного положения вещей и исторических фактов и которые были бы вполне правильны, если бы не находились в противоречии с преобладавшими настроениями общества и народа, считаться с которыми он не умел и не хотел [137].
Важно заметить, что проницательный Оболенский говорит здесь не о целях, а о путях достижения этих целей. Цели и князя Дмитрия Михайловича, и Сперанского, и Милюкова были истинными для России целями. Цели Петра, Остермана, Ленина — при всей их кажущейся разнице — были целями фанатическими и губительными. Но эти утописты умели выбрать реальный путь к нереальной цели, и потому проблема власти решалась ими успешно. Реформаторы же пытались идти к здравой цели утопическим путем, игнорируя "иллюзии", которыми была увлечена в соответствующий момент человеческая масса. И не дотягивались до власти, получив которую в достаточном объеме они могли бы доказать свою правоту.
Владимир Андреевич Оболенский, в большей степени человек, чем профессиональный политик, спокойно обдумывая через много лет причины российской катастрофы, замечательно проиллюстрировал эту убийственную черту русских реформаторов-прогрессистов: "Вся конституционная тактика Милюкова, при помощи которой он рассчитывал принудить правительство к уступкам, ни к чему не привела, ибо конституционный монарх Николай II (после известного манифеста 17 октября 1905 года. — Я. Г.) продолжал считать себя самодержцем" [138].
Тут надо прервать цитату и обратить внимание на сходную ошибку Милюкова после манифеста 17 октября и князя Дмитрия Михайловича после подписания Анной кондиций. Оба они не учли "самодержавности сознания" русских царей, которая не снималась никакими договорами.
Последним усилием Милюкова на пути его конституционной борьбы был созданный по его мысли прогрессивный блок. Но, оказавшись бессильным в конституционной борьбе, прогрессивный блок, невольно втянутый в борьбу с монархом, сделался одним из факторов революции, которую его создатель и лидер хотел предотвратить. Овладение проливами, соединяющими Черное море со Средиземным, было жизненной задачей для России. Милюков был прав, ставя эту задачу одной из целей вспыхнувшей мировой войны. Но он продолжал настаивать на этой цели в качестве министра иностранных дел во время революции, когда русская армия была уже не способна продолжать войну. Между тем следствия его патриотического упорства были печальны: ему самому пришлось уйти из состава Временного правительства, а его иностранная политика дала благоприятную почву для демагогической пропаганды большевиков против войны и "империалистической буржуазии". И далее, во время гражданской войны он поддерживал диктатуру Деникина, которая гибла от внутреннего разложения, вел переговоры с немцами об оккупации русских столиц перед полным разгромом немецких армий, а за границей образовал эмигрантскую республиканско-демократическую группу, совершенно чуждую психологии как большинства русской эмиграции, так и настроениям выросшей в России под властью большевиков молодежи [139].
Это именно тот тип политики, умной в общеисторическом смысле и провальной в конкретных обстоятельствах, которую вел в решающие недели и князь Дмитрий Михайлович.
Остерман и Прокопович, строители мертвой машины, в действии были гораздо ближе к принципам живой жизни, чем Голицын, взыскующий органичной государственности.
Свирепый утопист Ленин по пути к достижению безумной цели умел сливаться с иррациональной стихией народных устремлений, то есть был тактическим реалистом.
Милюков, тонко учитывая обстоятельства, демонстрируя готовность к самым крутым маневрам, действовал над стихией. "Считая себя реальным политиком, он во всех своих политических зигзагах исходил из соображений о том, в чем в данный момент нуждалась Россия. И соображения эти были вполне логичны. Но политика — не шахматная доска, на которой бездушные деревянные фигурки двигаются исключительно по воле игроков. И строго обдуманные шахматные ходы Милюкова сплошь да рядом оказывались неудачными вследствие сопротивления одушевленных фигурок… Понятно, что этот крупнейший человек и дальновидный политик в течение своей полувековой политической деятельности систематически терпел неудачи. Русская жизнь с ее кипучими страстями постоянно выбивалась из рамок его политических расчетов…" [140]
Государственные проекты и политические комбинации Голицына и Милюкова существовали в пределах здравой политической логики.
Демиургические замыслы Ленина своим размахом опрокидывали все разумные ограничения, но в этом богоборческом размахе содержалась своя религиозность, мощно воздействовавшая на людей. "В июне 1917-го года, — заканчивает Степун свой рассказ, — мало кому было ясно, насколько легче революции входят в логику своего безумия, чем в разум своей истины".
Россия пожинала плоды столетий ложной государственной разумности, государственной дисциплинированной религиозности, тупо подавляемого инстинкта свободы, дошедшего до состояния смертельно напряженной пружины, и вулканический выброс высвобожденной энергии сокрушил остатки и без того распадающейся духовной структуры народа.
Здесь требовалась новая религиозность.
Говоря о нелепости рассуждений Ленина, Степун тем не менее заметил: "Ленину с большим ораторским подъемом и искренним нравственным негодованием возражал сам Керенский. С легкостью разбив детски-примитивные положения Ленина, он все же не уничтожил громадного впечатления от речи своего противника, смысл которой заключался не в программе построения новой жизни, а в пафосе разрушения старой".
Они боролись при помощи классической логики с тем, что существовало по совершенно иной логике.
Тыркова писала:
Сам насквозь рассудочный, Милюков обращался к рассудку слушателей. Волновать сердца… было не в его стиле. Его дело было ясно излагать сложные вопросы политики… Обычно он давал синтез того, что накопила русская и чужеземная либеральная доктрина. В ней не было связи с глубинами своеобразной русской народной жизни. Может быть, потому, что Милюков был совершенно лишен религиозного чувства, как есть люди, лишенные чувства музыкального [141].
Философ Федор Степун объяснял глухоту кадетов их западничеством. Но Ленин был не меньший, а то и больший западник, чем историк Милюков с его вкусом к плоти русской истории. Причины, по которым на короткий, но решающий момент основная масса активных русских людей предпочла Ленина Милюкову, лежали глубже. Отчасти этот трагический парадокс объяснял Бердяев:
Русская революция сразу же обнаружила страшный раскол между верхним культурным слоем и народными массами. Культура этого верхнего слоя была чужда народу. Народ перешел от наивной православной веры, в которой не вполне еще были преодолены языческие суеверия, к наивной материалистической и коммунистической вере. В революции произошел срыв русской культуры, перерыв культурной традиции, которого не произошло, например, во французской революции. Произошло низвержение культурного слоя [142].