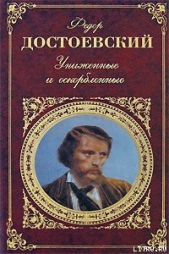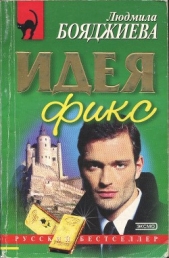Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы

Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы читать книгу онлайн
Известный петербургский писатель-историк приоткрывает завесу над «делом царевича Алексея», которое предшествовало событиям 1730 года, важнейшего периода русской истории, в котором обнаруживаются причины последующих исторических катаклизмов, захлестнувших Россию и разразившихся грандиозной катастрофой революции 1905 года. В это время у России появился шанс — выбрать конституционное правление и отказаться от самодержавия.
12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).
В оформлении лицевой стороны обложки использована картина И. И. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Последний план в точности совпадает с тем, что замышлял еще в ранние декабристские времена отчаянный Лунин…
Думаю, что, с некоторой иронией отзываясь о замыслах Гучкова и приписывая ему ориентацию на "гвардейский переворот" образца XVIII века, Милюков несколько хитрил сам с собой. В пору писания мемуаров ему, умудренному не только огромным опытом русской политической истории, досконально им изученной, но теперь уже и собственным печальным политическим опытом, неловко было самому себе признаться в своей прежней политико-психологической связи с практикой прошлых столетий.
Когда гвардии полковник князь Трубецкой, избранный в канун 14 декабря диктатором, говорил, что для переворота ему хватит одного полка, то он точно оценивал тактическую ситуацию при определенных условиях. Но когда профессиональный политик Милюков в совершенно иной ситуации — в 1916 году — мыслит теми же категориями, это может привести в изумление. "Помню, однако, и мне поставили в Москве вполне конкретный вопрос: почему Государственная дума не берет власть? Я хорошо помню и то, что я ответил: "Приведите мне два полка к Таврическому дворцу — и мы возьмем власть. Я думал поставить невыполнимое условие. На деле я невольно изрек пророчество" [123].
Вряд ли в шестнадцатом году Милюков и в самом деле полагал, что ставит заведомо "невыполнимое условие".
Думаю, что тогда он просто выдал себя и через много лет пытался снять серьезность своих слов. Скоро мы увидим, что Павел Николаевич был гораздо ближе к князю Дмитрию Михайловичу и деятелям его круга, чем он хотел себе признаться…
Конечно же, Милюков был не глупее нас и понимал архаичность "переворотных" замыслов, восходивших к принципиально иным политическим условиям. Но на него, как и на Гучкова, давила задача, им перед собою поставленная, — осуществить переворот, не допустив пугачевщины, анархии, кровавой самодеятельности масс. Контролировать они могли только локальное, стремительное и узкое движение. Отсюда кажущаяся нам теперь наивной ориентация на гвардейские методы XVIII века и тактику 14 декабря.
Как в свое время верховники, оппозиционные лидеры семнадцатого года оказались в тактической ловушке. Путь, который обещал прочное овладение властью — и которым пошел Ленин, — был для них невозможен. И не только из-за нравственной щепетильности. Это препятствие большинство политиков умеет преодолеть. Но власть, полученная "пугачевским путем", подразумевала и реализацию "пугачевских целей". А вот этого они принять не могли.
Как в свое время князь Дмитрий Михайлович, Милюков, я подозреваю, оказавшись на пороге свершений, о которых мечтал много лет, не стал додумывать ситуацию до конца. Он оставил свою мысль на рубеже, за которым неизбежно следовал обессиливающий скепсис, ибо, оценив обстановку и как историк, и как практический политик, он мог понять тяжкое несоответствие своих целей и методов реальному ходу жизни.
Но есть категория политиков, не только ставящих перед собой великую цель, которая и оказывается единственным смыслом их существования, но и выбирающих раз и навсегда методы достижения этой цели — стиль действий. По мере продвижения к цели, и чем ближе к ней, тем интенсивнее, вырабатывается у них некий защитный психологический механизм, который останавливает их мысль на подступах к трезвой оценке этого стиля в реальных обстоятельствах. Смена стиля для них равнозначна самоубийству.
Эта особенность психологии сильных и убежденных лидеров привела и в 1730 и в 1917 годах к пагубно неточной оценке ситуации. Но непонимание того, что в действительности хочет современное им "общенародие", у "сильных персон" семнадцатого года оказалось еще глубже, чем у верховников.
2 марта 1917 года Милюков, лидер конституционных демократов, один из самых известных политических деятелей России, один из самых энергичных организаторов новой власти, произносил очередную речь перед революционной толпой, собравшейся в зале Таврического дворца. Он так вспоминал об этом эпизоде:
Очередь дошла до самого рогатого вопроса — о царе и династии. Я предвидел возражения и начал с оговорки: "Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я скажу его. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола — или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей". В зале зашумели. Послышались крики: "Это — старая династия!" Я продолжал повышенным тоном: "Да, господа, это — старая династия, которую, может быть, не любите вы, а может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без ответа и без разрешения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентарную и конституционную монархию. Быть может, другие представляют иначе. Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо того чтобы сразу решить вопрос, то Россия окажется в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим. Этого сделать мы не имеем права" [124].
На первый взгляд прогноз Милюкова относительно возрождения разрушенного режима не оправдался. Но это только на первый взгляд. На самом деле реставрация самодержавной системы в ее петровском варианте произошла достаточно скоро — в конце двадцатых годов (мы к этому еще вернемся), и гражданская война была одной из предпосылок реставрации.
Тут историк Милюков твердо заглянул в будущее. Но то, что он предложил в момент действия, и было чревато междоусобицей. Ее симптомы не замедлили появиться. "А к вечеру, в сумерках, в той же зале произошла следующая сцена. Я увидел Родзянко, который рысцой бежал ко мне в сопровождении кучки офицеров, от которых несло запахом вина. Прерывающимся голосом он повторял их слова, что после моих заявлений о династии они не могут вернуться к своим частям. Они требовали, чтобы я отказался от этих слов" [125]. Офицеры знали настроение столичного гарнизона лучше Милюкова. Они понимали, что защита опостылевшей династии может привести к самосудам над ними…
Теоретически Милюков был совершенно прав. Парламентарная и конституционная монархия давала наилучшие шансы на выход из кризиса. И вполне возможно, что сохранение династии в подобной системе государственного устройства было разумно. Но разумность и теоретическая целесообразность никого не интересовали. Направление процесса диктовалось особым — кризисным — народным правосознанием, замешенным на элементарной справедливости. В это представление о справедливости как важная составная часть входила жажда мести за многовековые унижения. Но без учета неизбежных последствий. Ужас заключался в том, что окончательно рухнула всякая, даже формальная, связь между государственными и общественными интересами, с одной стороны, и тем, как представлял себе свои интересы каждый отдельный человек в России. Разумеется, за исключением тонкого слоя, к которому и принадлежали демократические и конституционные лидеры. Но — решали не они.
Внутреннее, чисто человеческое — помимо всего прочего, — неприятие компромисса в социальных отношениях, в политике и общественной культуре, то самое неприятие, которое так много способствовало и гибели великого замысла князя Дмитрия Михайловича, и его собственной, было вообще чрезвычайно сильно в русской жизни. Умная, наблюдательная сподвижница кадетского лидера Ариадна Тыркова, спокойно рассматривая впоследствии действия конституционных демократов, специально обратила внимание на эту черту:
Кадеты и после манифеста 17-го октября продолжали оставаться в оппозиции. Они не сделали ни одной попытки для совместной с правительством работы в Государственной думе. Политическая логика на это указывала, но психологически это оказалось совершенно невозможно. Мешала не программа. Мы стояли не за республику, а за конституционную монархию. Мы признавали собственность, мы хотели социальных реформ, а не социальной революции. К террору мы не призывали. Но за разумной схемой, которая даже сейчас могла бы дать России благоустройство, покой, благосостояние, свободу, бушевала эмоциональная стихия. В политике она имеет огромное значение. Неостывшие бунтарские эмоции помешали либералам исполнить задачу, на которую их явно готовила история, — войти в сотрудничество с исторической властью и вместе с ней перестроить жизнь по-новому, вокруг которого развиваются, разрастаются клетки народного тела… Одним из главных препятствий было расхождение между трезвой программой и бурностью их политических переживаний [126].