Искусство частной жизни. Век Людовика XIV
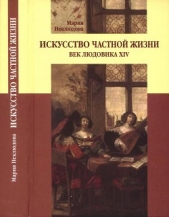
Искусство частной жизни. Век Людовика XIV читать книгу онлайн
В то время, когда Людовик XIV возводил Версаль, его современники пытались создать новый образ жизни, противостоявший Версалю. Такой альтернативой для них стала сфера частных отношений — идеальное пространство общения, где человек сам конструировал свою идентичность. Эти опыты производились не только в жизни, но и на бумаге, благодаря чему у читателя этой книги есть двойная возможность познакомиться с тем, как современники Людовика XIV представляли себе искусство частной жизни, и расширить свои представления о французской литературе XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все рассказы о смерти Мадам несут на себе отпечаток ars moriendi. По всей видимости, не только потому, что подобные руководства давали определенную модель восприятия чужой смерти и рассуждения о ней. Благодаря им сама Мадам прекрасно представляла, как ей следовало себя вести. Заметим, что в этом (если верить госпоже де Лафайет) она проявила больше проницательности, нежели ее окружение. Тогда как все вокруг считали болезнь неопасной, она избрала другую линию поведения, сразу решив, что умирает. Все ее последующие жесты соответствовали этому «сценарию»: равнодушие к покидаемому миру, пренебрежение физическими страданиями, желание исповедаться и причаститься, прощание с близкими, потребность в духовной поддержке, оказываемой умирающим людьми церкви. Как отмечали и госпожа де Лафайет, и Боссюэ, Генриетта умирала по всем правилам и этим дополнительно вызвала восхищение современников.
Как подобало особе королевской крови и супруге брата короля, Генриетта умирала при большом скоплении свидетелей. Помимо ars moriendi ее поведение и поведение окружающих регулировалось и этикетом. Если сравнить описание ее смерти с изобилующими у Сен-Симона повествованиями о кончинах других членов королевского дома, то можно заметить как значительные совпадения, так и целый ряд отличий. К первым относится порядок прощания: король всегда приезжал проститься с умирающим родичем, но удалялся, когда становилось понятно, что конец совсем близок (таков был обычай: ему не позволялось находиться под одной крышей с покойником). Обычно отъезд короля служил знаком ко всеобщему бегству, и умирающий оставался на попечении духовенства и слуг. Однако в случае Генриетты этого, по всей видимости, не произошло. Тут могла сыграть роль общая растерянность: мало кто до конца верил, что Мадам все-таки умрет. Поэтому ее смерть в большей мере оказалась зрелищем, нежели кончина ее супруга (умершего в шестьдесят один год) или даже короля (который нескольких дней не дожил до семидесяти семи лет).
Этот зрелищный аспект делал смерть Мадам идеальным примером для назидания. Как подчеркивал в своем надгробном слове Боссюэ, кончина особы ее ранга была своеобразным посланием, адресованным окружающим. Она побуждала их подумать о собственной смерти, в свою очередь оборачиваясь одним из инструментов ars moriendi. О том, до какой степени это был естественный ход мысли, свидетельствуют мемуары Луи де Понти, одного из «отшельников Пор-Рояля», записанные с его слов другим «отшельником», Дю Фоссе. Однажды Понти гостил у друзей; побеседовав с хозяином дома, он вышел из комнаты, чтобы не мешать тому закончить письмо.
Спустившись вниз, я встретил мальчишку-лакея и послал его в комнату господина, который мог иметь в нем нужду. Мальчишка взбежал наверх и, войдя в комнату, нашел его лежащим на спине на полу, рядом с огнем, со скрещенными на груди руками, совершенно бездыханным, как будто он умер сутки назад. Столь неожиданное зрелище страшно его напугало, и вместо того, чтобы войти в комнату, он бросился ко мне, совершенно вне себя, твердя:
— Сударь, мой господин умер, идите, идите скорее!
— Что ты говоришь! — воскликнул я. — Как умер?
Я со всех ног побежал и, войдя в комнату, обнаружил тело, лежащее, как уже было сказано, около огня.
— Боже мой, — сказал я тогда, — что же это такое?
Весть молнией облетела дом, и сбежались все домочадцы, рыдая, восклицая, почти вне себя из-за столь нежданной беды <…>.
Можно себе вообразить, какое смятение царило в доме. Все метались как безумные. Несли одно лекарство за другим, подкрепляющие составы и всевозможные целебные снадобья. Согрели полотенца и положили ему на грудь, надеясь привести его в сознание, как будто речь шла о преходящем недуге. Но все было бесполезно, он лежал как пень и был мертвее мертвого.
Тут его жена, от которой нельзя было утаить положение вещей, прибежала вся вне себя и хотела войти в комнату, где был мертвец. Но я бросился к ней навстречу, взял на руки и отнес в спальню, где положил на постель и сказал:
— Ваше место здесь, сударыня, а там вам делать нечего. Молите Господа о его душе: сейчас ему более всего необходимы ваши молитвы <…>.
Столь удивительная кончина произвела на меня необычное впечатление и заставила на досуге всерьез задуматься о ненадежности этой жизни и о непостоянстве всего земного. Часто я говорил самому себе:
— Как! Еще четверть часа назад этот человек прекрасно себя чувствовал, и вдруг он мертв. И я могу так же мгновенно умереть, как он. Сейчас я жив, но буду ли жив через четверть часа? И что тогда с тобой будет, несчастный? Что будет с тем, каков ты сейчас? Время начать серьезно об этом размышлять. Ведь может быть, что через эту смерть Господь говорит с тобой. [320]
Результатом этих раздумий стало решение удалиться от мира и заняться духовной подготовкой к встрече с Творцом: так Понти очутился в числе «отшельников» Пор-Рояля.
Иными словами, если заданное Тридентским собором направление духовной реформы лишало предсмертные ритуалы былой значимости, подчеркивая важность поведения человека в течение всей жизни, то это отнюдь не отменяло показательного характера самого события. Умирающий знал, что в духовном отношении значение имеет не то, как он умирает, а то, как он жил, однако на окружающих влияли именно обстоятельства смерти. Это расхождение внутренней и внешней точки зрения фиксировал не слишком ортодоксальный в своих взглядах Сент-Эвремон:
С точки зрения здравого смысла обстоятельства смерти касаются лишь тех, кто остается в этом мире. Слабость, решимость, слезы или безразличие — в последний миг все равно; нелепо думать, что они что-либо значат для человека, который утрачивает свое бытие. [321]
Судя по описаниям современников, смерть Генриетты Английской тоже была отмечена этой двойственностью. Окружающие (да и умирающая) не могли не чувствовать объективного драматизма ситуации, учитывая возраст и положение Мадам. В этом смысле ее смерть была красноречива еще до того, как стала предметом для красноречия. К тому же персона ее ранга должна была думать не только о себе (то есть о спасении своей души), но и о том впечатлении, которое ее кончина произведет на окружающих. Умирая «благой смертью», Генриетта исполняла свой последний долг перед обществом, с восхищением за ней наблюдавшим.
В «Надгробном слове Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской» Боссюэ, говоря о безвременной кончине Мадам, воспользовался не вполне обычным выражением: «Трудясь над ее историей, мы видели лишь все самое славное, что только подвластно воображению». И затем: «Такова радостная история, которую мы писали для Мадам; для завершения этого благородного замысла недоставало лишь долгой жизни, но об этом, казалось, можно было не тревожиться». Очевидно, что под «историей» Боссюэ подразумевал не уже написанный текст, а саму жизнь Генриетты, которая своим существованием закладывала основу будущего исторического повествования. Это повествование складывалось в общественном сознании, проходя сквозь фильтр устной обработки, а затем должно было обрести законченную форму под пером какого-нибудь историка. (Об этой динамике жизни и жизнеописания уже шла речь в предыдущей главе в связи с «Мемуарами» мадмуазель де Монпансье.)
Когда Боссюэ произносил эти слова, проект истории Генриетты Английской уже существовал, и принадлежал он самой принцессе. Как свидетельствует госпожа де Лафайет, впервые эта идея возникла в 1665 г., после изгнания графа де Гиша. Генриетта стала рассказывать ей подробности интриги и предложила записать их в качестве «истории», то есть связного фабульного повествования. Работа продолжилась в 1699 г., когда накануне очередных родов Генриетта была вынуждена вести относительно уединенный образ жизни. Она не только рассказывала, но и прочитывала написанное госпожой де Лафайет, с удовольствием наблюдая, как ее биография превращалась в небольшой роман. Потом политические и семейные заботы прервали эти занятия. Госпожа де Лафайет признавалась: «Смерть принцессы не оставила у меня ни намерения, ни вкуса к продолжению этой истории». [322] В оригинале эта фраза более двусмысленна, нежели способен передать перевод. Госпожа де Лафайет говорила о том, что смерть Генриетты лишила ее «dessein», то есть одновременно и намерения, и плана работы. Неоднозначно и упоминание о вкусе (gout), поскольку на языке эпохи слово служило для обозначения личной симпатии. Иначе говоря, госпожа де Лафайет констатировала, что после кончины Мадам она осталась без плана и без личного мотива продолжать это повествование, смысл которого был в соавторстве.

























