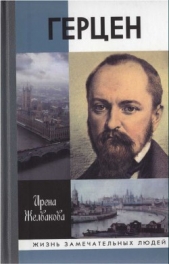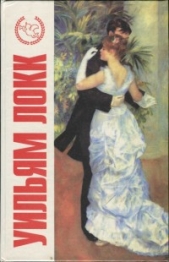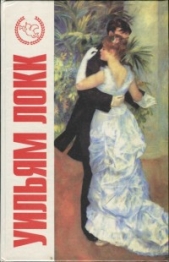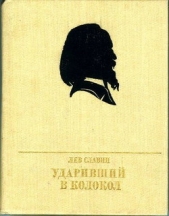Ударивший в колокол
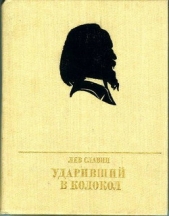
Ударивший в колокол читать книгу онлайн
Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову. В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском. Его новая книга посвящена великому русскому мыслителю, писателю и революционеру Александру Герцену. Автор показывает своего героя в сложном переплетении жизненных, политических и литературных коллизий, раскрывает широчайший круг личных, идейных связей и контактов Герцена в среде русской и международной демократии. Повесть, изданная впервые в 1979 г., получила положительные отклики читателей и прессы и выходит третьим изданием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот что, Василий Иванович, — сказал Герцен. — Сегодняшняя вечеринка не в счет. Не спорьте со мной. Ближайший приемный день у меня в воскресенье, шестого. Вот тогда мы устроим истинное празднование «Колокола». Без посторонних. Все действительно свои. Это будет и душевно, и политически значительно. Не трудитесь звать людей, я сам, оно и сердечней и почетнее.
Ветошников просиял, увидев, что к нему направляется Герцен.
Мысли о Дон-Кихоте, мелькнувшие во время разговора с Кельсиевым, Герцен поспешил внести в «Концы и начала», в «Письмо третье». Он немного расширил этот пассаж. Вспоминая свои недавние споры с Тургеневым («Дон-Кихот — альтруист! Дон-Кихот — борец с мировым злом!»), он изобразил Дон-Кихота в немногих строках, вплетая их в разные места рукописи, последователем ложных идеалов, не сумевшим принести благо людям, — пример: Гарибальди и Маццини. Перед их благородными помыслами Герцен преклонялся, но считал их политически наивными.
Он аккуратно сложил рукопись и понес ее на второй этаж к Огареву.
— Вот тебе моя болтовня о концах и началах, — сказал он. — Да, так я и назвал эти листки. Я уходил в них, как уходят в воскресный отдых от ежедневных стычек — ты знаешь, с кем, от газетных мерзостей, от будничных споров.
— Для «Колокола»?
— А еще куда же?
— Как подпишешь?
— Как обычно: Искандер.
— Ты, впрочем, можешь и вовсе не подписывать: все равно узнают ex ungue leonem [58]. Удивляет меня несколько самое название, а вернее, порядок слов в нем — в голове «концы», а в хвосте «начала». Не должен ли я отнести это за счет особенностей твоего остроумия, которое так любит взъерошивать обыденность?
— Все это проще, нежели ты предполагаешь. Но — касательно остроумия. Что оно такое? Разве не великолепно обмолвился Жуковский: «Острота ума не есть государственное преступление»? Согласись, это сказано лукаво.
Огарев сказал сквозь смех:
— Я знаю, Александр, что у тебя слабость к этому придворному поэту.
— Да, но он выручил меня из ссылки. Хочешь ли еще примеры остроумия? Изволь. Цитирую на память. Спиноза сказал: «Счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести».
— Назидательно.
— А вот из филимоновского «Дурацкого колпака»: «Если бы разум царил в мире, в нем ничего не происходило бы». Такого рода высокое остроумие есть освежение обычных понятий, представление привычного в новом свете — истинном! К этому я стремлюсь и в «Концах и началах». Достиг ли? Вот это ты мне и скажешь.
— Стало быть, это в письмах? — спросил Огарев, листая рукопись. Ему не терпелось прочесть ее.
— Да. Признаюсь, Ник, я пристрастен к эпистолярному жанру. Письма — это движущаяся раскрытая исповедь, в них все без румян и прикрас, все остается, оседает и сохраняется, как моллюск, зажатый кремнем. Рука моя невольно тянется к жанру письма.
— Понимаю тебя. Думаю, что для тебя в этом жанре есть еще одна приманка: ты представляешь себе воображаемого получателя письма и от его образа воспламеняешься.
— Кажется, ты прав. Ты увидишь в этой рукописи много вводных мест. Это мое счастие и несчастие. За эти-то отступления и за скобки я всего больше и люблю форму писем — и именно писем к друзьям.
И он прибавил, смеясь:
— Можно, не стесняясь, писать, что в голову придет.
— Уж не Иван ли Сергеевич твой таинственный адресат? Ты с ним много спорил, когда он недавно был у нас.
Огарев угадал. Это были споры между своими. Различие мнений не отдалило их друг от друга, Герцен никогда не мог устоять перед его умом и талантом. Ради этого он забывал, что когда-то о Тургеневе сказала Натали: «Он для меня, как книга, рассказывает — интересно. Но как дело дойдет до души — ни привету ни ответу».
А что касается до принципиальных, иногда яростных споров с Тургеневым в один из его приездов в Орсетт-хауз, то дружбы тогда они, повторяю, не нарушили. Да, Тургенев проявил себя в этих спорах как фанатичный европеец, бесповоротно убежденный во всеобщем превосходстве Запада над косной Россией.
Герцен знал: Тургенев поймет, что «Концы и начала» обращены к нему. Некоторые строки в них дословно повторяли его — Герцена — доводы во время этих словесных (главным образом ночных) битв с Тургеневым. Хотя бы это:
— Мещанство — последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности… Снизу все тянется в мещанство, сверху все падает в него по невозможности удержаться.
Преодолевая своим звучным голосом возмущенный ропот Тургенева, Герцен почти кричал, что мещанство съедает европейское искусства, что в Европе нынче нет ни передовой философии, ни социальных учений.
— Мещанство, — говорил он, — окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетне… После всех мечтаний и стремлений оно представляет людям скромный покой, менее тревожную жизнь и посильное довольство.
При этом Герцен отталкивал от себя мысль — просто запрещал себе об этом думать, — что этот образ жизни с радостью приняло бы большинство человечества.
Но эта идея потребительского общества живуча, черт побери! Она то и дело подымает голову и нагло заявляет о своем существовании. Чтобы доконать ее, Герцен втаскивает в «Концы и начала» героев из своей ранней повести «Поврежденный» и разносит одного из них:
«…И все-то это для того, чтобы дойти до голландского покоя и за эту похлебку из чечевицы проститься с лучшими мечтами, с святейшими стремлениями».
Конечно, Герцен не называл прямо Тургенева ни в «Концах и началах», ни в изустных боях, когда обвинял русских в пренебрежении собственной страной. Но все-таки это было обращение во втором лице:
— К язвам России и к той борьбе, которая в ней идет, вы поворачиваетесь спиной, чтобы не лишиться собственного благополучия.
Зная, что бурный водоворот спора иногда стихийно увлекает его за пределы реального, он в успокоительном тоне добавил:
— Я не считаю мещанства окончательной формой русского устройства, того устройства, к которому Россия стремится и достигая которого она, вероятно, пройдет и мещанской полосой…
Был еще пункт, и очень важный, о котором Герцен умолчал в «Концах и началах». И о своем умолчании он также умолчал.
Ну хорошо, таковы, значит, концы погрязшей в мещанстве Европы. (В скобках, столь любимых Герценом, надо сказать, что увлеченный своим тезисом, он, который так проницательно предсказал возвышение Бисмарка и франко-прусскую войну, проморгал близкий приход Парижской коммуны, на пороге которой он стоял.)
Ну хорошо, свет с Востока, Россия не повторит путь Европы, ее начала другие.
Какие?
Вот этим буквально вопросом Герцен завершает «Письмо восьмое» и последнее «Концов и начал»: «Да, но в чем же эти начала?»
Ответа нет.
А ведь естественно было бы ожидать от Герцена утверждения, что путь России, ее «начала» — это русская сельская община.
Но о ней в «Концах и началах» ни слова.
Не потому ли, что эта идея стала выветриваться из политических убеждений Герцена?
Когда наконец вся семья собралась за столом, Герцен глянул на часы:
— Нынче ужин запаздывает. Что за причина?
— Ждем папу Агу, — ответила Наталья Алексеевна. — Я уже дважды посылала к нему.
— Сегодня к нему не достучишься: он читает мои «Концы и начала». Однако это хороший признак для автора, — сказал Герцен, смеясь.
Он с живостью оглянулся, заслышав мягкое шарканье.
Огарев протянул ему рукопись. Но тут же передумал:
— Нет, она мне понадобится для разговора о ней. Позволишь совместить это с чревоугодием?
— Конечно, соединим приятное с… приятным.
— Ну, обычный твой блеск, Александр, глубина, картинность. Хотя…
— Ну что же «хотя»? Добивай уже.
— Не все до конца ясно.
— Я избегаю догматического изложения.
— Ясность мысли не то, что ясность изложения. У меня в этом смысле две претензии. Первая. Ты расправляешься со старинным врагом твоим — мещанством. Ты не жалеешь для этого слов. А почему ты их тратишь вопреки своему лаконизму так много? Потому что само понятие «мещанство» трудноопределимо, если определимо вообще. Действительно, что это такое? Явление духа? Или — отсутствие духа? Взгляд на мир? Или равнодушное отсутствие его?