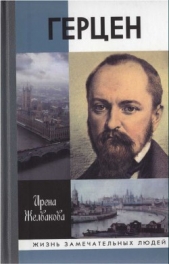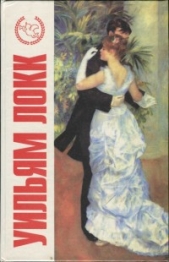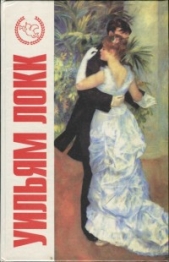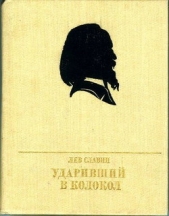Ударивший в колокол
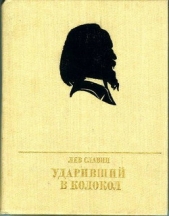
Ударивший в колокол читать книгу онлайн
Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову. В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском. Его новая книга посвящена великому русскому мыслителю, писателю и революционеру Александру Герцену. Автор показывает своего героя в сложном переплетении жизненных, политических и литературных коллизий, раскрывает широчайший круг личных, идейных связей и контактов Герцена в среде русской и международной демократии. Повесть, изданная впервые в 1979 г., получила положительные отклики читателей и прессы и выходит третьим изданием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Понимаю, — перебил его Герцен, — что вы… простите, он, ну, кажется, это все равно, разумеете под этими словами. Здесь мы, Николай Гаврилович, расходимся. Но Добролюбову передайте, что я сожалею, если он задет моей статьей «Very dangerous!!!». Я ведь не знал, что это он, как и не знал, каков он. Только сейчас из ваших слов я догадываюсь, что это человек нашего ряда. В ближайшем же листе «Колокола» я помещу объяснение. Думаю, оно удовлетворит вас.
— Поверьте, Добролюбов глубоко уважает вас, Александр Иванович, и не теряет надежды, что вы и он сблизите свои точки зрения.
Молчание. Решительного слова не было произнесено. Оно висело в воздухе.
Молчание, которое становилось уже тягостным, прервал Чернышевский:
— Я не хотел бы возвращаться к уже сказанному, но для полного уяснения предмета вынужден сказать, что вы, Александр Иванович, простите, не поняли истинного смысла статьи Добролюбова и — еще раз простите — недооценили всю меру ее значительности. Выражение «пожилые мудрецы» не принимайте на свой счет. Сам Добролюбов замечает, что «пожилые мудрецы» «встречаются и между двадцатилетними».
Несмотря на примирительные слова с обеих сторон, собеседники, казалось, понимали, что им не договориться в том основном, что продолжало витать в воздухе.
Герцена несколько задевал наставительный тон Чернышевского. Герцен отдавал должное его уму. Но этот безапелляционный тон, это преувеличенное мнение о «Современнике», о Добролюбове, да, пожалуй, и о самом себе…
А Чернышевский в это время, не меняя своей напряженной позы на краю стула, не жестикулируя в разговоре, не меняя жестковатого выражения лица, думал о Герцене:
«Блеск ума удивительный… Но вот что значит оторванность от России… Весь в прошлом, в фехтовальных спорах в московских салонах сороковых годов…»
А вслух сказал:
— Вам следовало бы, Александр Иванович, поскольку вы свободны от цепей цензуры, давать в «Колоколе» программу войны с самодержавием. Тогда и обличение уместно.
Герцен усмехнулся:
— Боюсь, что вы смотрите на меня как на ценность исключительно археологическую, скажем, как на скелет мамонта.
Чернышевский, казалось, смутился. Он потупил глаза и сказал:
— Ваше отношение к самодержавию — примирение на известных условиях. Наше — никаких условий. Война!
Яснее нельзя было сказать. Это звучало как ультиматум. Но Чернышевский еще искал путей к компромиссу: сопротивление — да, бунт — нет. Да и Герцен еще не терял надежды найти пути согласия со своим гостем. Однако точек соприкосновения не находилось…
В конце концов Чернышевский понял это. Он не хотел тратить время на словесные препирательства со столь искусным спорщиком. Нет, больше ему здесь делать нечего. Его лондонская миссия кончилась. Щепкину не удалось потянуть Герцена вправо, Чернышевскому — влево.
А тут еще Герцен обрушился на редактора «Современника» Некрасова, которого он не жаловал за его путаные денежные дела, в частности с Огаревым.
Этого Чернышевский не выдержал, встал и, сухо попрощавшись, отклонив уговоры Герцена остаться, ушел с досадою и горечью в сердце.
И все же он считал, что известная доля пользы была достигнута этим его стремительным скачком в Лондон. Все-таки он подвинул Герцена к справедливому суждению о Добролюбове и о сегодняшней политической линии «Современника». А четкое размежевание в путях революционной работы также пойдет на пользу общему делу.
Теперь, когда к Герцену пришло понимание новой пoзиции «Современника», он сожалел, что с маху, в порыве своей демонической иронии свалил в одну кучу Добролюбова и Сенковского, мракобесного издателя реакционной «Библиотеки для чтения» николаевской эпохи, клеймя в полемическом задоре их, как пустых и циничных зубоскалов.
В ближайшем листе «Колокола» Герцен поместил заметку под названием «Объяснение статьи „Very dange rous!!!“. Это „Объяснение“ (впору ему называться: „Извиненне“!) вполне в духе рыцарского характера Герцена:
„Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек… Мы не имели в виду ни одного литератора…“
Герцен понимал, что и Чернышевский, и Добролюбов, и он сам — в одной шеренге борцов за свободу. И расхождение между ним и теми двумя начинается дальше — там, где встает вопрос о методах борьбы: Они — за крестьянскую революцию, он — за крестьянскую реформу, — память о крахе революции сорок восьмого года не умирала в нем.
Но за исключением этого внешнее впечатление от свидания Герцена и Чернышевского таково, что они разошлись, не придя к согласию. Однако Добролюбов удовлетворенно улыбнулся, прочитав письмо Чернышевского: „…Разумеется, я ездил не понапрасну…“
А в статье Герцена „Лишние люди и желчевики“, вскоре появившейся в „Колоколе“, Герцен согласился с мнением Чернышевского, что обличительная литература не то чтобы устарела, но, во всяком случае, ее одной недостаточно. „И люди, говорящие, — писал Герцен, имея в виду Чернышевского и Добролюбова, — что не на взяточников и казнокрадов следует обрушивать громы и стрелы, а на среду… совершенно правы“.
Да, они шли — покуда! — разными путями в своей повседневной революционной практике. Но в коренном теоретическом вопросе — о будущем России — их взгляды совпадали. Пути разные, цель одна. Будущее России — социализм. А зерно социализма в его русском воплощении — в крестьянской общине. И в этом, полагали они, преимущество России над Европой. Это зерно живо сейчас. Не утратить бы его! Ведь оно — фундамент грядущего! Так они оба считали, не подозревая о глубине своего заблуждения.
Когда Чернышевский в разговоре с Герценом восставал против негативного направления „Колокола“ и восклицал: „Покажите ваше политическое лицо! Объявите, за что вы и с кем вы!“, — Герцен не сразу ему ответил. Он предпочел сделать это в статье „Русские немцы и немецкие русские“. С пером в руках он чувствовал себя увереннее. Это помогало ему упорядочивать и собственные мысли. Так получила известную определенность и „теория русского социализма“. Герцен строит ее на трех китах. Для большей наглядности он, такой противник всякого схематизма и назидательности, составляет из них колонну и даже метит номерами:
1) право каждого на землю.
2) общинное владение ею.
3) мирское управление.
Он настаивает на этом. Он не перестает повторять это при каждом удобном случае. Да и неудобном — тоже.
Вот это и была та нить, которая связала лондонского изгнанника с вожаком революционных демократов. „Ученый друг, приходивший возмущать покой моей берлоги“ — так с дружелюбной шутливостью именует его Герцен и восхищается его образным определением общины, такой древней и такой юной провозвестницы русского социализма.
„Высшая ступень развития по форме совпадает с его началом… История, как бабушка, страшно любит младших внучат“.
Чернышевский слишком мало пробыл у Герцена, что-бы между ними могла возникнуть личная дружба, но несомненно то влияние, которое в эти краткие дни произвела на Герцена сильная личность Чернышевского. Да он открыто признал это и именно в тех же словах, когда писал в „Колоколе“ в статье „Порядок торжествует!“ о том, что после петрашевцев „является сильная личность Чернышевского… Мы служили временным дополнением друг друга… В Петербурге, Москве и даже в провинциях готовились фаланги молодых людей, проповедовавших слово“ и делом общую теорию социализма, которой частным случаем являлся сельский вопрос. Но, — прибавляет Герцен, и в этом „но“ заключается сердцевина вопроса, — в этом-то частном случае и была архимедова точка… выборное начало сельской общины… и общинное землевладение…».
Огарев находился в полном согласии с Герценом и Чернышевским. И не потому, что в этот период он совершенно растворился в личности Герцена, а потому, что он, как и они, странным образом упускал из виду, что социализм — это определенная организация производства. А ею и не пахло в общине. Ибо она, русская сельская община, — это, конечно, не почин будущего социалистического строя, а только пережиток «первобытного землевладения».