Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
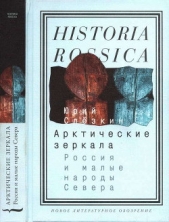
Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера читать книгу онлайн
Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина, автора уже изданного в «НЛО» интеллектуального бестселлера «Эра Меркурия: Евреи в современном мире» (2005), посвящена загадке культурной чуждости. На протяжении нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. Эти столкновения не проходили бесследно для представлений русских/россиян о самих себе, о цивилизации, о человечестве. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания фигуры — иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный коммунист, последний абориген — предстают в книге продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и эксплуатации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Победа марристов состоялась не вовремя. В октябре 1931 г. письмо Сталина в редакцию газеты «Пролетарская революция» возвестило начало конца культурной революции {1040}. Радикальное экспериментирование, утопизм, гонения на профессуру и ликвидация научных дисциплин были неуместными в эпоху «закрепления достижений» — тем более что новая порода партийных вождей явно считала культурное и академическое иконоборчество дурным тоном. В школы возвращались учителя, зубрежка и дисциплина; в литературу — романтические герои; в семейную жизнь — «мещанские ценности»; а в правовую систему — преступление и наказание. Равенство было объявлено обывательской выдумкой, а институты, которые были приговорены к «отмиранию», зажили с новой силой. «Культурное наследие» и его потрепанные представители пришли на смену бывшим гонителям, ныне «левым уклонистам».
В этот момент решения конференции прозвучали фальшивой нотой. Не успели Маторин и Быковский стереть последнее упоминание о разных подходах к «историческим» и «неисторическим» народам, как ЦК партии издал указ против северных коллективизаторов, который провозгласил подобную уравниловку корнем всех зол и потребовал немедленно прекратить «грубое механическое перенесение в отсталые туземные районы Крайнего Севера опыта передовых районов Союза» {1041}. Этнографии грозила опасность впасть в крайность, противоположную крайностям педологии. Когда резолюция конференции была наконец опубликована, она сопровождалась разъяснением, утверждавшим, что «похороны» этнографии и археологии были результатом «левацкого упрощенчества» и вели к «нигилистическому отрицанию роли старого наследия в науке» {1042}. После обязательного периода «самокритики» советская этнография продолжила свое существование. Напрямую партия не вмешивалась, и Маторин, Быковский и их товарищи сохранили свое положение во главе советской этнографии и даже проводили в жизнь свою идеологическую линию. (Этому способствовало то обстоятельство, что большинство ученых не знали, что делать в новых условиях, и на всякий случай придерживались марристской программы-минимум.) Полевые исследования и изучение конкретных современных обществ исчезли почти полностью, уступив место толкованиям марровских яфетических писаний и энгельсовского «Происхождения семьи, частной собственности и государства». Этнография превратилась в теорию «первобытного коммунизма», а главными темами для обсуждения стали происхождение институтов классового общества, проблема внутренних противоречий доклассового общества и роль пережитков в последующей социальной эволюции [88].
Таким образом, малые народы Севера стали одним большим пережитком. Поскольку настоящее было социалистическим, несоциалистическое настоящее стало частью прошлого. Неисторические народы стали историей — и по ходу дела приобрели собственное прошлое. В форме косвенного упрека в адрес тех, кто по-прежнему думает (или считает своим долгом говорить, что думает), что нет жизни без классовой борьбы, сталинское письмо в редакцию газеты «Пролетарская революция» утверждало, что союз с «угнетенными нациями и колониями» — но не с угнетенными классами внутри этих наций — всегда был краеугольным камнем большевистской идеологии {1043}. [89] Следствием этого заявления стал поток текстов о борьбе коренных сибиряков против царского колониализма {1044}, превратившийся в наводнение после появления соответствующего призыва в «Правде» в 1936 г. {1045}.
Но традиционные (первобытные) объекты этнографического изучения не были лишь эпизодами из истории российского империализма. В первую очередь они представляли собой определенную стадию в развитии человечества. В соответствии с новыми целями этнографии/истории важнейшей задачей исследователя было определить стадию развития, на которой стоит данное сообщество, и решить, что с ним следует делать. Это было довольно опасным предприятием, и большинство участников дискуссии воевали либо с логикой, либо (невольно) с марксизмом. Старые руководители Комитета Севера смирились с политическим требованием поиска эксплуататоров в обществах, которые они считали бесклассовыми, а радикалы утверждали, что охотники и собиратели каким-то образом достигли феодальной или даже капиталистической стадии развития, не изменив при этом способа ведения хозяйства. Последней точки зрения придерживались в основном коллективизаторы и те деятели культурной революции, для кого классовая борьба была образом жизни. Обоснованием правильности их позиции служили официально провозглашенный успех «великого перелома» и Энгельсово определение «детской простоты» доклассового сообщества: «Без солдат, жандармов и полицейских, без дворян, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без судебных процессов — все идет своим установленным порядком… Бедных и нуждающихся не может быть — коммунистическое хозяйство и род знают свои обязанности по отношению к престарелым, больным и изувеченным на войне. Все равны и свободны, в том числе и женщины» {1046}.
Можно ли было сказать такое о любом народе СССР? Конечно нет. Следовательно, первобытный коммунизм (доклассовое общество, родовой строй) более не существовал; все, что походило на него, было пережитком предшествующей стадии развития. Понятие «пережиток» было центральным во всех аргументах; оно обеспечивало практически безграничную гибкость анализа, позволяя исследователю избавиться от любого факта, не укладывавшегося в данное определение. Более того, в глазах профессиональных первооткрывателей эксплуатации пережитки были не чем иным, как циничной кулацкой мистификацией, искусственно сохранявшейся под «лозунгом родовой солидарности, солидарности по принципу кровного родства» {1047}. Традиционные «производственные союзы», такие как парма и байдара, рассматривались как очаги воинствующей отсталости, «тормоза социалистического строительства и орудия классового врага» {1048}. Иначе говоря, северные кулаки равны русским кулакам, которые равны капиталистам (или, по крайней мере, феодалам). Определения реального места данного сообщества в цепи социально-экономических формаций терялось в лесу пережитков. Важно было бороться — против кулачества и против «неонародников» («правых оппортунистов»), которые были настолько близоруки или злонамеренны, что воспринимали пережитки как подлинно коллективистские общины {1049}. [90]
Со своей стороны, руководители Комитета Севера и другие «неонародники» обвиняли радикалов в теоретическом невежестве, а иногда и в троцкизме. Воодушевленные официальной кампанией против «левацкого упрощенчества», Скачко и его товарищи настаивали на том, что северные общества не знают капитала, прибавочной стоимости и сельского пролетариата, что идиллическая картина первобытного коммунизма является примером той самой «уравниловки», которую так язвительно высмеивает товарищ Сталин, и что традиционные институты могут и должны использоваться как базис для создания колхозов {1050}. После 1932 г. политический климат в Москве казался подходящим для подобных заявлений, но попытки развить эту аргументацию натолкнулись на серьезные проблемы. Существование классовой борьбы не могло ставиться под сомнение, но даже самое широкое определение первобытного коммунизма нельзя было растянуть до таких пределов. Как в XVIII в., туземные общества следовало определять посредством того, чем они не были, с той разницей, что теперь эта картина не была статичной, и малые народы рассматривались как постоянно движущиеся из одной точки в другую, никогда не достигая цели. Скачко писал, что они находятся «в стадии перехода от натурального хозяйства к товарному… и в стадии перехода от доклассового родового общества… к обществу классовому», а И.И. Билибин, другой теоретик Комитета, утверждал, что их общественный строй представляет собой «систему недоразвитых крепостных отношений» {1051}. Даже направление их эволюции представлялось проблематичным. Почему «дородовое» общество чукчей настолько более развито, чем родовое — юкагиров? Почему чем дальше тот или иной народ находился от русского рынка, тем выше был уровень его социальной дифференциации и экономического развития? Почему товарное производство пушнины порождает меньше излишков и эксплуататоров, чем первобытное оленеводство? Скачко попытался разрешить эти вопросы, утверждая, что эксплуатация на Севере связана с торговлей, а не с применением наемного труда и что российская колонизация оказала уравнивающее воздействие на туземные сообщества {1052}, но его позиция оставалась уязвимой для нападок радикалов. Если у коренных народов Севера не существовало полностью сформировавшихся классов, в чем состояло антагонистическое противоречие, которое двигало вперед их историческое развитие? И почему двести лет «российского крепостнического капитализма» не привели к возникновению классов, если, согласно общепризнанному мнению, крепостнический капитализм «выступил в Сибири со всем цинизмом эпохи первоначального накопления»? {1053} И наконец, презрение к «уравниловке» оказалось обоюдоострым орудием, поскольку всякий знал, что коллективный труд — дело хорошее, а коллективное распределение — плохое. В результате политика Комитета по использованию пережитков для создания социалистических колхозов вновь была поставлена под сомнение, на этот раз потому, что туземцы проявили чересчур много равенства. Один эвенк, к примеру, заявил, что он, конечно, против уравниловки, но считает, что продукты надо делить на всех поровну {1054}.

























