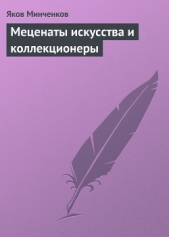Московские коллекционеры
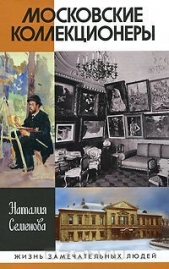
Московские коллекционеры читать книгу онлайн
То, что сагу о московских коллекционерах написала Наталия Семенова, неудивительно. Кому ж еще? Одна из первых красавиц московского искусствоведческого мира, она никогда не гнушалась не самой, увы, заметной и завидной в своей профессии работы: сидела в архивах, копала, выкапывала, искала свидетелей, собирала по крупицам, копила знание, которое долгие годы казалось не особо-то и нужным. Она не хотела петь надменно-капризным голосом о красоте мазка и изяществе линий, как это делали ее коллеги разных поколений, но предпочитала знать об искусстве нечто куда более вещественное: как оно живет в реальном мире, сколько стоило и стоит, кто его покупает, где оно оседает. Сначала интерес был чисто академическим, но постепенно Москва обросла коллекционерами новой формации, в которых профессиональный историк не мог не увидеть черты московского купечества, на рубеже ХIХ-ХХ веков подорвавшего монополию аристократии на собрания высочайшего качества. Попытка понять тех коллекционеров показалась Семеновой актуальной. Эта книга — о людях, семьях, покупках и продажах. Но еще она о страсти — потому что собрать настоящую, вошедшую в историю коллекцию может только человек, захваченный этой страстью как болезнью (Семенова называет это "дефектный ген").
Главные ее герои — Сергей Щукин, Иван Морозов, Илья Остроухов. Но суть этой книги составляют не столько истории большой тройки, сколько вообще особый мир московского купечества. Там все другу другу в той или иной степени родственники, живут рядом, у всех куча детей, которые вместе учатся, в своем кругу женятся, пересекаются в путешествиях и делах. Там каждый со своими тараканами, кто-то сибарит, а кто-то затворник, кто-то бежит от всего русского, как от заразы, а кто-то не может себе помыслить жизни иной, чем московская, кто-то говорит на пяти языках, а кто-то и на русском-то до конца жизни плохо пишет, а собирает безошибочно. Одни сорят деньгами, другие не дадут и лишней полтины. И из круговерти этих характеров и причуд рождаются удивительные собрания. Русские купцы скупают Гогенов и Сезаннов, влюбляются в полотна мало кому нужного и в Париже Матисса, везут Пикассо в не переварившую еще даже импрессионистов Москву, где публика на это искусство смотрит, "kak эскимосы на патефон". Читать об этом русском чуде чрезвычайно увлекательно. Книга просто написана, но ее автору безоговорочно веришь. Академического труда, в такой степени фактологически наполненного, еще нет. Про "искусство и деньги" у нас все еще говорят вполголоса — но не Семенова.
Лиза Бергер
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из Первого и Второго доселе автономных отделений получился объединенный музей — уже не de jure, a de facto [137]. К двумстам пятидесяти морозовским вещам прибавили столько же щукинских. Если оперировать цифрами, вышло совсем неплохо: 19 полотен Клода Моне, 11 — Ренуара, 29 — Гогена, 26 — Сезанна, 10 — Ван Гога, 9 — Дега; 14 — Боннара, 22 — Дерена, 53 — Матисса и 54 — Пикассо. Терновец оказался прав: впечатление от такого музея не могло не ошеломить. Хотя в реальности все складывалось отнюдь не столь оптимистично: картин оказалось гораздо больше, чем могло поместиться на втором этаже морозовского особняка. Многое сразу же убрали в запасник. Временно. Вопрос с помещениями обещали решить в течение первой пятилетки.
Впрочем, надобность в этом отпала: к «уничтожению» объединенного ГМНЗИ приступили практически сразу после открытия музея в декабре 1929 года. Бригаде Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР, осмотревшей в 1930 году новую экспозицию на улице Кропоткина, 21, музей не понравился. Еще бы! Ничего пролетарского — зрелище «для гурманов и эстетов». Единственный шанс сохранить собрание — переустроить музей по-новому, по-советски. Попробовали перевесить картины по «сюжетно-тематическому принципу». Начали высчитывать проценты: сколько имеется в наличии картин беспредметных, а сколько сюжетных, но для массового зрителя непонятных. Сколько — «понятных, но не отражающих общественные проблемы», всяких там натюрмортов и пейзажей «без людей». Или, наоборот, картин с персонажами, но «без очевидной классовой принадлежности». Сосчитали «революционно-активные, агитирующие в нужном направлении» картины и из них уже выбирали «реакционно-активные, затемняющие классовое сознание». В отдельную группу поместили нейтральные, «пассивно-протокольные портреты», выражаясь языком инспектирующих.
Ситуация складывалась катастрофическая. Картин на тему рабочего класса удалось насчитать всего девять, что составило лишь 2,18 процента от их общего числа [138]. Ответом на призыв к деятелям культуры идти по пути создания «Магнитостроев искусств» вполне мог стать всероссийский комбинат, «регулирующий распределение и использование видов искусства» в пределах Москвы и провинции. Как раз на базе коллекций ГМНЗИ и ГТГ и планировалось создание подобного комбината, а шефство над ним могло быть поручено одному из промышленных предприятий.
Это по линии идеологии. А по линии материальной не лучше: огромный морозовский особняк, по-прежнему не дававший покоя. На этот раз на него «положила глаз» Военная академия РККА. И опять нашелся заступник. Сменивший Луначарского новый нарком просвещения РСФСР старый партиец Алексей Сергеевич Бубнов выступил в защиту ГМНЗИ совершенно по-советски. Он пригрозил обратиться в партийные инстанции, если «посягательства на установленную для настоящего периода минимальную квоту на сеть музеев» не прекратятся. Музей удалось сохранить, однако коллекции методично сокращались. Во-первых, передавали картины в провинцию (такое были обязаны тогда делать многие музеи), а во-вторых, менялись с Эрмитажем. Подобная практика — мы вам новое искусство, а вы нам старое — продолжалась несколько лет. В свое время у Ленинграда вообще был реальный шанс получить не несколько десятков полотен, а щукинскую галерею целиком. Если бы в 1926 году Комиссия по разгрузке завладела особняком в Знаменском, то Щукинское отделение отправилось бы напрямую в Ленинград…
Упадочное буржуазное искусство методично убирали в запасник, который стремительно увеличивался, но повесочной площади по-прежнему отчаянно не хватало. Панно Дени забили щитами и превратили бывший концертный салон в зал Матисса, а дубовые панели в готическом кабинете затянули дешевым холстом и повесили картины Пикассо.
Тем временем Главная контора Госторга РСФСР по скупке и реализации антикварных вещей начала активно «прощупывать» ГМНЗИ на предмет изъятия картин для продажи. После принятого на закрытом заседании Совнаркома секретного постановления «О мерах к усилению экспорта и реализации за границей предметов старины и искусства» в 1928 году каждый советский музей «обложили» данью. Не зная, чем еще поправить катастрофический дефицит бюджета, правительство решило начать распродажу государственных музеев (бывшие частные собрания и дворцы уже давно активно «экспортировались»). Самыми перспективными клиентами импортно-экспортная контора «Антиквариат» считала американцев: они покупали все без исключения — драгоценности, иконы, мебель, книги, живопись барокко и ренессанса. Готовы были даже купить храм Василия Блаженного, разобрать и увезти за океан.
Охотников до импрессионистов и французской живописи, к сожалению (а вернее, к счастью), оказалось немного. Один только доктор Альберт Барнс из Филадельфии, пожелавший приобрести Сезанна. «Антиквариат» пожадничал и запросил за щукинского «Пьеро и Арлекина» почти полмиллиона немецких марок (стоимость назначали именно в марках, поскольку во всех сделках начиная с середины 1920-х Советам посредничала Германия). Клиента такая цена сильно смутила [139]. Был и второй покупатель. На него вышла американская галерея Нодлера, также державшая связь с «Антиквариатом» через Берлин. На этот раз все сложилось. Морозовские «Мадам Сезанн в оранжерее» Сезанна и «Ночное кафе» Ван Гога, а с ними Ренуар и Дега (первый ранее принадлежал князю Сергею Щербатову, а второй — Михаилу Рябушинскому), благополучно перекочевали в частную коллекцию Стивена Кларка. Четыре картины обошлись наследнику состояния, заработанного на производстве швейных машин, в 260 тысяч долларов. Сделка успела состояться до заключения дипломатических отношений со Штатами, иначе бы исков бывших собственников и их наследников было не избежать. И все равно мистер Кларк опасался скандала и держал покупку в секрете до конца дней. А если и давал картины на выставки, то только анонимно [140].
Экспортно-антикварная кампания пережила несколько волн. Первую — в 1920 году, вторую — в 1922–1923 годах и третью, заключительную, — в 1928–1933 годах. Последняя оказалась самой мощной. Ученые, музейщики и прочая гуманитарная общественность уже не могли сопротивляться. К счастью, к концу 1933 года торговля произведениями искусства из советских музеев сошла на нет. В Германии к власти пришел Гитлер, и с верным посредником пришлось расстаться. То, что СССР торгует своими музеями, стало известно всему миру. Разграбление удалось приостановить вовсе не благодаря отчаянным протестам деятелей культуры. Советский Союз признали почти все страны, и бесчисленное количество исков со стороны бывших владельцев сделалось реальным препятствием для дальнейшей торговли. Причем правовые и юридические последствия беспокоили потенциальных покупателей куда больше, нежели «красных купцов».
Отобранные для продажи картины вернулись в ГМНЗИ — тридцать две из тридцати шести [141]. Эрмитажные вещи продавали сотнями, а у москвичей забрали лишь четыре несчастные картины. Ни процента от продаж, ни господдержки. Средствам взяться было неоткуда. Музей нового западного искусства влачил довольно жалкое существование, и дом на улице Кропоткина более уже ничем не напоминал роскошный дворец. Имя прежнего его владельца боялись даже произносить, жить с фамилией «Морозов» в СССР вообще было небезопасно. В 1928 году в первом каталоге ГМНЗИ Терновец все-таки рискнул поставить под картинами инициалы «Щ» и «М», хотя бы таким образом намекнув на бывшую принадлежность картин С. И. Щукина и И. А. Морозова. В 1930-х даже такое упоминание было равносильно самоубийству.
Дни музея были сочтены. В январе 1936 года «Правда» опубликовала статью «Сумбур вместо музыки». И хотя в ней критиковался Шостакович, сигнал к началу борьбы с формализмом был подан. Учитывая, что формалистическим объявлялось изобразительное искусство начиная с импрессионизма, ГМНЗИ становился главной идеологической мишенью. Бориса Николаевича Терновца сняли с должности директора без всякого предупреждения. Об увольнении он узнал из газет. С 1 января 1938 года он больше нигде не служил.