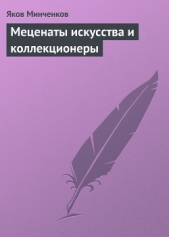Московские коллекционеры
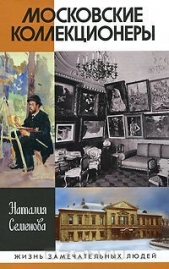
Московские коллекционеры читать книгу онлайн
То, что сагу о московских коллекционерах написала Наталия Семенова, неудивительно. Кому ж еще? Одна из первых красавиц московского искусствоведческого мира, она никогда не гнушалась не самой, увы, заметной и завидной в своей профессии работы: сидела в архивах, копала, выкапывала, искала свидетелей, собирала по крупицам, копила знание, которое долгие годы казалось не особо-то и нужным. Она не хотела петь надменно-капризным голосом о красоте мазка и изяществе линий, как это делали ее коллеги разных поколений, но предпочитала знать об искусстве нечто куда более вещественное: как оно живет в реальном мире, сколько стоило и стоит, кто его покупает, где оно оседает. Сначала интерес был чисто академическим, но постепенно Москва обросла коллекционерами новой формации, в которых профессиональный историк не мог не увидеть черты московского купечества, на рубеже ХIХ-ХХ веков подорвавшего монополию аристократии на собрания высочайшего качества. Попытка понять тех коллекционеров показалась Семеновой актуальной. Эта книга — о людях, семьях, покупках и продажах. Но еще она о страсти — потому что собрать настоящую, вошедшую в историю коллекцию может только человек, захваченный этой страстью как болезнью (Семенова называет это "дефектный ген").
Главные ее герои — Сергей Щукин, Иван Морозов, Илья Остроухов. Но суть этой книги составляют не столько истории большой тройки, сколько вообще особый мир московского купечества. Там все другу другу в той или иной степени родственники, живут рядом, у всех куча детей, которые вместе учатся, в своем кругу женятся, пересекаются в путешествиях и делах. Там каждый со своими тараканами, кто-то сибарит, а кто-то затворник, кто-то бежит от всего русского, как от заразы, а кто-то не может себе помыслить жизни иной, чем московская, кто-то говорит на пяти языках, а кто-то и на русском-то до конца жизни плохо пишет, а собирает безошибочно. Одни сорят деньгами, другие не дадут и лишней полтины. И из круговерти этих характеров и причуд рождаются удивительные собрания. Русские купцы скупают Гогенов и Сезаннов, влюбляются в полотна мало кому нужного и в Париже Матисса, везут Пикассо в не переварившую еще даже импрессионистов Москву, где публика на это искусство смотрит, "kak эскимосы на патефон". Читать об этом русском чуде чрезвычайно увлекательно. Книга просто написана, но ее автору безоговорочно веришь. Академического труда, в такой степени фактологически наполненного, еще нет. Про "искусство и деньги" у нас все еще говорят вполголоса — но не Семенова.
Лиза Бергер
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ужасно умереть вдали от дома, пусть даже временного, и в наглухо заколоченном гробу отправиться в странствие по Европе (на память почему-то приходит умерший на курорте, в Баденвейлере, Чехов, чье тело привезли в Москву в вагоне-холодильнике для устриц). Вдове и дочери было не до оплакивания усопшего. Пришлось улаживать бесконечные формальности, заверяя документы сначала во французском консульстве в Берлине, потом в Женеве и, наконец, в Париже, чтобы ввезти гроб с телом во Францию. Все нужные документы сохранились, но тело бесследно исчезло — ни один французский архив не может подтвердить факт захоронения.
В Русской церкви на рю Дарю отслужили три панихиды по усопшему: первую — 24 июля по просьбе семьи, вторую, три дня спустя, заказал Союз русских промышленников, а на девятый день — Банк И. В. Юнкера, членом совета которого был покойный. Никаких некрологов — только объявление в черной рамке в парижских «Общем деле» и «Последних новостях» и берлинской газете «Руль». В Советской России об уходе из жизни И. А. Морозова написал Б. Н. Терновец в рубрике «Собиратели и антиквары прошлого» в журнале «Среди коллекционеров» [133]. В 1921 году такое вполне позволялось.
В патриархальных русских семьях принято было заботиться об усопших. Пышные похороны, поминальные службы, мраморные надгробия. У Морозовых все вышло иначе. Могилы всех трех братьев исчезли с лица земли. Часовню в древнерусском стиле, сделанную по проекту Виктора Васнецова на могиле Михаила, уничтожили вместе с кладбищем Покровского монастыря, а где похоронили Арсения и Ивана, и вовсе не известно. Если бы в семье Ивана Абрамовича все сложилось благополучно, правнуки по сей день носили бы цветы на могилы прадедушки и прабабушки. Но Евдокия Сергеевна рассорилась с дочерью, и все пошло кувырком. Из-за чего они прекратили отношения — нам уже не узнать. Быть может, из-за денег, которые по завещанию доставались матери, собиравшейся устраивать свою дальнейшую жизнь (ей было всего-то тридцать шесть лет). Очевидно одно: спустя полгода после смерти мужа Дося Старшая буквально «вытолкнула» Досю Маленькую под венец и, как гласит семейная легенда, зачем-то наняла свидетелей, чтобы те заверили брак девятнадцатилетней Евдокии Морозовой и Сергея Коновалова [134].
Жених, Сергей Коновалов, происходил из костромских промышленников, чье семейство описал Мельников-Печерский в романах «В лесах» и «На горах». Коноваловы, как и Морозовы, были текстильными фабрикантами, владельцами Товарищества «Иван Коновалов с сыном», выпускавшего бельевой и одежный товар. Как и Морозовы, их предки выкупились на волю и построили грандиозную мануфактуру в Бонячках (ныне город Вичуга) Костромской губернии. Самое же невероятное совпадение было не в одинаковом происхождении и работе на текстильном поприще, а в отношении к собственным рабочим. Даже Варваре Алексеевне Морозовой было далеко до Коноваловых, которые у себя в Бонячках сумели воплотить в жизнь утопическую мечту о городе-саде. При фабрике они действительно построили образцовый город с парком-садом с клумбами, аллеями и полянами, теннисными кортами и площадками для крикета (!). По одну сторону парка размещалась фабричная зона с озером и общественными зданиями: церковью, училищем, богадельней, яслями и гигантским Народным домом с театральным залом и библиотекой. На противоположном берегу вырос поселок для служащих с двухквартирными домами. Больницу Коноваловы устроили такую, какой в России вообще не видывали: с собственным хирургическим отделением и зубным кабинетом.
Последним владельцем города-сада и фабрик был свекор Евдокии Ивановны Морозовой А. И. Коновалов, один из основателей Всероссийского союза торговли и промышленности и министр торговли и промышленности в двух первых составах Временного правительства. Александра Ивановича арестовали вместе со всем кабинетом в злосчастный день Октябрьского переворота. Потом, правда, освободили, но в марте 1921 года он оказался в числе организаторов антисоветского Кронштадтского мятежа и бежал во Францию. В Париже его ждали сын и жена [135].
В декабре 1922-го у молодоженов Коноваловых родился сын. Он появился на свет в Германии, в Бонне, и был назван в честь деда Иваном. Брак этот оказался непрочным, и в конце 1937 года супруги развелись. Красавица Дося вышла за грузинского князя, а потом за дипломата Шарля Леска, а Сергей Коновалов покинул Францию. Дальнейшие сорок лет Сергею Александровичу предстояло прожить в Англии, стать профессором русского языка и литературы в Бирмингеме, а после войны возглавить русскую кафедру в Оксфорде и воспитать не одно поколение британских филологов.
Первое и последнее интервью Морозов дал за год до смерти. Заканчивалось оно на удивление оптимистично. Феликс Фенеон посоветовал коллекционеру вспомнить юность и заняться живописью. Ведь у него теперь столько свободного времени! «Я слишком хорошо знаю живопись, чтобы осмелиться ее делать. Но все-таки подумаю над вашим предложением», — ответил Иван Абрамович, иронически улыбнулся и попросил… дать адрес торговца красками. Создавалось такое впечатление, что за судьбу коллекции он совершенно спокоен. «Ни одна русская, ни одна французская картина не пострадала. Коллекция нетронута и находится там же, где я ее основал, во дворце, который украшают "Весна" и "Осень" Боннара и "История Психеи" Дени».
Тем временем бывший морозовский особняк продолжал жить совсем новой жизнью — как Второе отделение Музея новой западной живописи. В 1923 году Морозовское отделение «организационно объединили» с Первым, Щукинским, и вдобавок переименовали. Слово «живопись» в названии музея заменило слово «искусство», и труднопроизносимая аббревиатура «ГМНЖЗ» превратилась в «ГМНЗИ». Оба особняка были уплотнены до предела. В каждом умудрились разместить не только по музею, но еще и «нарезать» клетушек для десятков жильцов. И все равно Комиссия по разгрузке города регулярно атаковала то одно, то другое здание. В 1925 году морозовский дворец на Пречистенке, уже носившей имя теоретика анархизма П. А. Кропоткина, чуть было не передали родильному приюту. Спасло вмешательство наркома иностранных дел Чичерина. Георгий Васильевич был из «бывших» (сын дипломата и баронессы, племянник видного юриста) и выделялся среди кремлевских чиновников образованностью (говорил на всех европейских языках и объяснялся на арабском, разбирался в музыке и даже написал книгу о Моцарте). Дипломат, подписавший Брестский мир и Раппальский договор, Чичерин нашел убедительный аргумент: враги республики непременно используют закрытие нового советского музея в своих целях. И это сработало.
В том же году из морозовского особняка увезли русские картины. Отечественное искусство и раньше не отвечало теме музея, но до него просто руки не доходили. Коллекция была огромной — 318 единиц хранения, ее передавали Государственному музейному фонду больше двух лет. Десяток-другой картин успел исчезнуть, что-то «разбросали» по провинциальным музеям, однако большая и лучшая часть досталась Третьяковской галерее и удивительно органично влилась в ее собрание. Представить себе эти картины когда-то висящими у Морозова просто невозможно, тем более что о происхождении работ на музейных этикетках в наших музеях писать не принято. Даже для П. М. Третьякова не было сделано исключения, хотя он и считался в СССР первым и единственным русским коллекционером [136].
Государственная Третьяковская галерея сделалась главным музеем города, а всю прочую «мелочь» вроде пролетарских музеев, музеев старины и дворянского быта с середины 1920-х начали закрывать, объясняя нехваткой средств на их содержание. Политика слияния и поглощения достигла кульминации к 1928 году, когда пало Щукинское отделение ГМНЗИ. Искать заступничества у высокопоставленных покровителей больше не имело смысла: нэп был на исходе, старых большевиков еще не трогали, но профессиональных революционеров от дел постепенно отстраняли. Приказ об освобождении особняка на Знаменке был исполнен. Картины перевезли на улицу Кропоткина, и на этом история Щукинской галереи закончилась. Собранный из полотен Гогена «иконостас», Розовая гостиная Матисса, Музыкальный салон Моне и Кабинет Пикассо остались только на фотографиях.