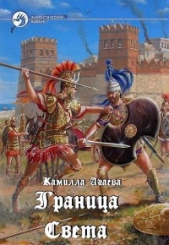История чтения

История чтения читать книгу онлайн
Когда и где впервые возникли буквы и книги? Что такое сладость чтения? Кто научил верблюдов ходить в алфавитном порядке? Хорошо ли красть книги? Правда ли, что за любовь к чтению предавали казни? Является ли чтение страстью, наслаждением, отдохновением и приятным времяпрепровождением? Альберто Мангуэль (р. 1948) — известный издатель, переводчик, редактор и знаток многих языков. Среди персонажей этой увлекательной книги писатели и философы, святые и простые смертные — любители книг и чтения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В частности и за этим приходила публика на чтения Диккенса, это же приводит зрителей на публичные чтения и сегодня: посмотреть, как читает писатель, не актер, а именно писатель; услышать голос, который писатель слышал, когда созвал своих персонажей; сравнить голос писателя с его словами на бумаге. Для некоторых читателей это нечто вроде суеверия. Они хотят знать, как выглядит писатель, потому что верят, что в писательстве есть что-то от магии; они хотят видеть лицо человека, написавшего роман или стихотворение, точно так же, как хотели бы увидеть лицо божка, создателя малой вселенной. Они охотятся за автографами и подсовывают книги автору под нос в надежде, что уйдут с вожделенной надписью: «Полонию, с наилучшими пожеланиями от автора». Это их энтузиазм заставил как-то Уильяма Голдинга сказать (во время литературного фестиваля в 1989 в Торонто), что «в один прекрасный день кто-нибудь обнаружит ненадписанный экземпляр романа Уильяма Голдинга, и он будет стоить целое состояние». Ими движет то же самое любопытство, которое побуждает детей заглядывать за кулисы кукольного театра или разбирать часы. Они мечтают поцеловать руку, написавшую «Улисса», даже несмотря на то, что, как заметил Джойс, «эта же рука делала еще и множество других вещей» [605]. Испанский писатель Дамасо Алонсо вовсе не был восхищен. Он считал публичные чтения «порождением снобистского лицемерия и неизлечимой поверхностности нашего времени». Разницу между постепенным познанием книги, которую мы читаем про себя, в одиночестве, и быстрым знакомством с автором в переполненном амфитеатре, он описывал позже как «плод нашей неосознанной спешки. В конечном счете так проявляется наше варварство. Ибо культура медлительна» [606].
Во время авторских чтений на фестивалях в Торонто, Эдинбурге, Мельбурне или в Саламанке читатели надеются стать частью творческого процесса. Они надеются, что на их глазах может произойти нечто неожиданное, непредвиденное, незабываемое событие, которое позволит им стать свидетелями момента творения радость, в которой было отказано даже Адаму, так что, если кто-нибудь спросит их в старости, как когда-то иронически спрашивал Роберт Браунинг: «Так, значит, с Шелли вы встретились раз?» — ответ будет «Да».
В эссе о пандах биолог Стефан Джей Гоулд писал, что «зоопарки из тюрем превратились в зоны сохранения и размножения диких животных» [607]. Лучшие литературные фестивали и наиболее успешные публичные чтения способствуют сохранению и размножению писателей. Сохранению, потому что писатели чувствуют (как признавался Плиний), что у них есть аудитория, для которой важна их работа; и потому, что им платят (а Плинию не платили) за работу; и размножению, поскольку писатели создают читателей, а те в свою очередь производят на свет новых писателей. Слушатели, которые покупают книги, прослушав чтение, вынуждают авторов больше читать вслух; автор, который понимает, что, хотя он и пишет на чистой странице, ему, по крайней мере, не приходится разговаривать с глухой стеной, может воодушевиться этим опытом и написать что-нибудь еще.
ПЕРЕВОДЧИК
КАК ЧИТАТЕЛЬ
Сидя в кафе неподалеку от музея Родена в Париже, я прилежно изучаю маленькое карманное издание сонетов Луизы Лабе, поэтессы XVI века из Лиона, переведенных на немецкий Райнером Мария Рильке. Рильке несколько лет работал секретарем Родена, а позднее стал другом скульптора и даже написал восторженное эссе о его творчестве. Некоторое время он жил в доме, которому суждено было стать музеем Родена, в залитой солнцем комнате с покрытыми узорами плесени стенами, смотрел в окно на заросший французский сад, бормотал себе под нос что-то, что, как ему казалось, вечно будет ускользать от него — некую поэтическую истину, которую впоследствии тысячи читателей будут находить в стихах самого Рильке. Эта комната была одним из его многочисленных временных пристанищ на пути из отеля в отель, из замка в еще более роскошный замок. «Никогда не забывай, что жребий мой — одиночество», — писал он из дома Родена одной из своих любовниц, такой же временной, как и комната. «И я умоляю тех, кто любит меня, полюбить и мое одиночество» [608].
Сидя за своим столиком в кафе, я вижу одинокое окно Рильке; если бы он сегодня был там, то увидел бы, как я, далеко внизу, читаю книгу, которую он когда-то написал. И под бдительным взором его духа я повторяю заключительные строки Сонета XIII:
Я надолго задержался на этом последнем слове, seliglicher. Sede — это «душа»; selig означает «благословенный», а еще «блаженный», «счастливый». Увеличительный суффикс -icher добавляет задушевному слову еще четыре звука. Кажется, оно таким образом продлевает блаженство, подаренное поцелуем возлюбленного; как и поцелуй, оно остается во рту, пока с -er не умирает на губах. Все остальные слова в этом трехстишии звучат односложно; и только seliglicher удерживает голос, отказываясь уходить.
Я заглядываю в оригинал сонета в другом томике в бумажной обложке, на этот раз «Oeuvres poétiques of Louise Labe» [609], который, благодаря чуду книгоиздания, стал на моем столике в кафе современником Рильке. Луиза Лабе писала:
Если забыть на время о современном значении слова baiserait (во времена Лабе оно означало только поцелуи, но с тех пор приобрело значение полноценного сексуального контакта), французский оригинал кажется мне вполне обычным, хотя и приятно прямолинейным. Быть счастливее в смертельной агонии любви, чем в горестях жизни, один из древнейших поэтических образов; душа, уходящая с поцелуем, — такой же древний и такой же избитый. Что же такое почувствовал Рильке в стихотворении Лабе, что позволило ему превратить ординарное heureuse в достопамятное seliglicher? Что побудило его снабдить меня, человека, который в противном случае скорее всего лишь рассеянно пролистал бы стихи Лабе, этим сложным и тревожащим чтением? Насколько сильно такой одаренный переводчик, как Рильке, влияет на наше представление об оригинале? И что в таком случае происходит с доверием читателя к автору? Думаю, что в какой-то степени ответ на эти вопросы сформировался в голове Рильке однажды зимой в Париже.
Карл Якоб Буркхард еще не знаменитый автор «Цивилизации Возрождения в Италии», а намного более и намного менее знаменитый историк-швейцарец уехал из родного Базеля учиться во Францию и в начале 1920-х работал в Национальной библиотеке в Париже. Однажды утром он зашел в парикмахерскую у площади Мадлен и попросил вымыть ему голову [611]. И сидя перед зеркалом с закрытыми глазами, он услышал, как у него за спиной разгорается скандал.