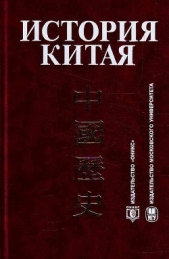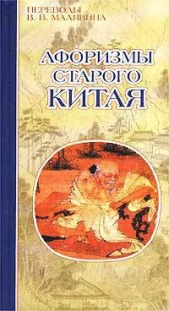Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин
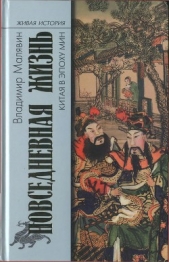
Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин читать книгу онлайн
Правление династии Мин (1368–1644) стало временем подведения итогов трехтысячелетнего развития китайской цивилизации. В эту эпоху достигли наивысшего развития все ее формы — поэзия и театр, живопись и архитектура, придворный этикет и народный фольклор. Однако изящество все чаще оборачивалось мертвым шаблоном, а поиск новых форм — вырождением содержания. Пытаясь преодолеть кризис традиции, философы переосмысливали догмы конфуцианства, художники «одним движением кисти зачеркивали сделанное прежде», а власть осуществляла идейный контроль над обществом при помощи предписаний и запретов. В своей новой книге ведущий российский исследователь Китая, профессор В. В. Малявин, рассматривает не столько конкретные проявления повседневной жизни китайцев в эпоху Мин, сколько истоки и глубинный смысл этих проявлений в диапазоне от религиозных церемоний до кулинарии и эротических романов. Это новаторское исследование адресовано как знатокам удивительной китайской культуры, так и тем, кто делает лишь первые шаги в ее изучении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Среди наиболее примечательных памятников нового миросозерцания назовем пьесы виднейшего драматурга того времени Тан Сяньцзу, ученика Ло Жуфана и близкого друга Ли Чжи и Юань Хундао, а также большое собрание любовных историй, составленное около 1630 года писателем Фэн Мэнлуном. Самая известная пьеса Тан Сяньцзу носит название «Пионовая беседка». Она написана по мотивам предания о девушке по имени Ду Линян, которая во сне влюбилась в некоего юношу и умерла от тоски, но благодаря силе своего любовного чувства вернулась к жизни и благополучно вышла замуж за возлюбленного (сделавшего успешную карьеру).
Подобные и многие другие истории о пылкой любви представлены и в книге Фэн Мэнлуна. В предисловии к ней автор пишет о себе: «С юных лет я прослыл большим поклонником чувства. Встретив дружественного мне человека, я открывал ему свое сердце и делил с ним все радости и горести. И если мне становилось известно, что кто-то живет в бедности или страдает от несправедливости, даже если он был мне незнаком, я бросался к нему на помощь. Если я встречал человека чувства, я склонялся перед ним. А если встречал человека без чувств, старался пробудить их в нем…» В своем панегирике чувствам Фэн Мэнлун заявляет далее, что чувство — это нить, на которую нанизываются все вещи в мире, а без этой нити они были бы подобны «рассыпавшимся монетам». Мечта его — возвестить миру о «религии чувства», которая могла бы с успехом заменить и сострадание Будды и человечность Конфуция.
Фэн Мэнлуну чувство кажется средой со-общительности человека с «небесными» устоями жизни (каковые для него, как для каждого конфуцианского ученого, воплощались в существующем укладе жизни). Это означало, помимо прочего, что для Фэн Мэнлуна и всех поклонников страстной жизни последняя способна связывать воедино мир живых и мир мертвых, «убивать живое и оживлять мертвое». Подобный взгляд на природу чувства, заметим, в точности совпадает с представлением о «врожденном знании» в кругах последователей Ван Янмина. Романтические литераторы соотносили сверхъестественную силу чувственного духа с миром сновидений, невольно-вольных «странствий души», когда наше «я», как бы умирая, открывает себя другим жизням. «Из страсти происходит сон, из сна происходит пьеса», — гласит формула Тан Сяньцзу. Сон есть мир «удивительного» (ци), мир иллюзий и фантастики. Но тот же сон знаменует предел самооставленности и спонтанности, а потому и полноты ощущений в жизни.
Если эмоция и сознательная воля, по китайским представлениям, находятся в отношениях некоего подвижного равновесия, то было бы логично предположить, что усиление эмоции должно обострить и само сознание. Такое предположение как раз и подтверждает вывод о том, что именно страстная жизнь ведет к постижению «высшей истины». Авторитетнейший знаток искусств Дун Цичан в рассуждениях об антикварных предметах придает парадоксу «спасительных страстей» откровенно нравоучительную окраску: «Небо устроило таким образом, что безудержное веселье непременно приводит к пресыщению. Посему крайнее возбуждение чувств обязательно обернется покоем и отрешенностью, а чрезмерная оживленность внезапно обратит мысли к чистому покою…»
Присущее новым прозаическим жанрам, прежде всего роману, стремление совместить сон и бодрствование не кажется удивительным, если принять во внимание известные нам на примере Гао Паньлуна жизненные правила ученых людей того времени: медитация перед сном и раннее пробуждение, несомненно, способствовали сближению в их жизни сна и яви, впечатлений дневных и ночных. Тем же целям служил такой важный атрибут «изящного» образа жизни, как легкое опьянение, переживаемое в приятной обстановке сада и в компании друзей. В самой нераздельности вымысла и действительности любители романов находили оправдание новому «легкомысленному» жанру. Литератор Чу Жэньхо в предисловии к роману о жизни богов «Фэншэнь яньи» назвал роман «большим надувательством» и посоветовал читателям вообще не задаваться вопросом о том, происходили ли на самом деле события, описанные в нем. Для автора и его единомышленников важнее было убедить читателей в том, что сон, как подлинный образ «действия сердца», приуготовляет, навлекает действительность. Корифеи учености того времени охотно описывают свои сны и ищут в них ключ к познанию тайн души и жизни. Как отмечается в анонимном предисловии к сборнику любовных новелл XVII века «Новый сон на Одинокой горе», «чтобы узреть подлинное в себе, нет лучшего способа, чем сон». Живописец У Бинь увидел во сне образы буддийских святых, которых изобразил на свитке, а его друг, рассказавший об этом событии, заметил, что У Биню было дано узреть «подлинные образы духовного мира».
Итак, для писателей-новаторов позднеминского времени мир сновидений предстает воплощением мучительно двусмысленной стихии страстей — одновременно губительной и спасительной. Губительной потому, что она отнимает сознательную волю и ввергает в глухое «подземелье души», в царство инобытия, символической смерти. Спасительной потому, что она открывает сердце бездне перемен, без чего не может быть и соучастия Великому Пути. И чем причудливее картины снов, тем яснее ощущается бодрствование сердца… Тот же Фэн Мэнлун выстраивал иерархию людей по их отношению к снам: «Темные люди не замечают снов, а потому у них чувства пылкие, а душа как мертвая. Обыкновенные люди видят много снов, а потому у них чувства спутаны, а душевная жизнь беспорядочна. Талантливые люди видят необычные сны, а потому их чувства сосредоточены на одном, а их душа чиста».
Правда сновидений открывается в их фантастике. Чувство фантастичности переживаемого позволяет погрузиться — как велит нам сон — в символическое пространство «тела Дао», этого неведомого «властелина сердца», проживающего свою жизнь несметной тьмой всех качествований жизни. Отказываясь владеть собой, сознание позволяет сокровенным «семенам» опыта свободно прорасти в мир внешних образов. В сущности, сон выступает как среда и сама сила преобразования символической глубины опыта в его познаваемую поверхность. Другими словами, в нем и посредством него свершается культурное творчество.
Надо признать, что дело Ли Чжи и других позднеминских ниспровергателей авторитетов, не найдя достойного выражения в области философской мысли, взяло реванш в литературе. Романы XVII века при ближайшем рассмотрении оказываются пародией на все и всяческие мифы Китайской империи: политический миф справедливого правления, религиозный миф святости, семейный миф родственного согласия, городской миф романтической любви и т. д. Аналогичным образом получившая широкое распространение в то время гравюра, дублируя сюжеты и образы классической живописи, низводила символы элитарной возвышенности духа до заурядных деталей быта, вроде лубка или картинки на игральных картах. Нападок нового критицизма не избежал даже оплот «древнелюбия» — академическая ученость. На рубеже XVI–XVII веков впервые были представлены доказательства поддельности значительной части одного из главных конфуцианских канонов — «Книги Преданий». С тех пор критическая струя в китайской филологической науке непрерывно усиливалась.
Какая странная ирония: рассматривать собственные духовные сокровища через кривое зеркало гротеска или, пуще того, подглядывать за ними через замочную скважину будуарного романа! Но именно так получилось в XVII столетии, когда китайская традиция, как никогда желавшая смотреть на себя со стороны, словно разучилась себя узнавать.
Историческая ограниченность неоконфуцианской традиции заключалась в неспособности ее восприемников объяснить слитность сознания и инстинкта в акте «само-оставления». Искания минских неоконфуцианцев привели к настолько полной интериоризации символизма традиции, что публичное пространство культуры стало быстро заполняться понятиями и ценностями жизненной эмпирии. В итоге этический максимализм неоконфуцианства оборачивался признанием неустранимости мирской «пошлости»: личное и публичное все более отдалялись друг от друга. Власти ответили на этот кризис самой примитивной пропагандой: они просто объявили, что утопия Великого Единения должна совпадать с действительным состоянием общества. Сомнение и недоверие было в этой ситуации единственной средней величиной, которая позволяла, по крайней мере, принять обе точки зрения. Это недоверие человека к самому себе, недоверие даже к святости откликнулось в минскую эпоху распространением чувства греховности и фантазмов адских мук, навязчиво заявлявших о себе не только в простонародной дидактической литературе и народных лубках, но и в сочинениях ученых людей. Мотиву личной вины отдал дань даже такой безупречный подвижник неоконфуцианства, как Лю Цзунчжоу, который советовал устраивать нечто вроде ритуала суда над самим собой, где человек выступает одновременно в роли обвинителя и ответчика. Согласно Лю Цзунчжоу, раскаяние в своих прегрешениях позволяет осознать единство своего сознания с Великой Пустотой и узреть «свой изначальный подлинный облик».