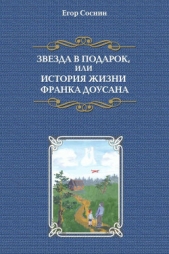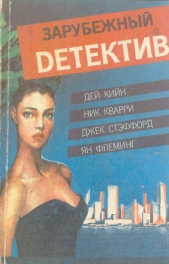Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999

Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999 читать книгу онлайн
Еврейский характер, еврейская судьба на экране российского, советского и снова российского кино.
Вот о чем книга Мирона Черненко, первое и единственное до сего дня основательное исследование этой темы в отечественном кинематографе. Автор привлек огромный фактический материал — более пятисот игровых и документальных фильмов, снятых за восемьдесят лет, с 1919 по 1999 год.
Мирон Черненко (1931–2004) — один из самых авторитетных исследователей кинематографа в нашей стране.
Окончил Харьковский юридический институт и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Заведовал отделом европейского кино НИИ киноискусства. До последних дней жизни был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, неоднократно удостаивался отечественных и зарубежных премий по кинокритике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как видно из пересказа картины, она представляет собой типичный продукт начинавшейся эпохи, в которой были перепутаны друг с другом обстоятельства, причины и следствия, просто несовместимые логически, относящиеся к разным уровням человеческого воображения. В частности, что общего с судьбой еврейской женщины имеет молитва, ставшая названием картины, — «Отче наш»? И что общего имеет с еврейской судьбой вообще «Откровение Иоанна Богослова», именуемое Апокалипсисом? И таких вопросов можно было бы задать великое множество, и каждый из них оставался бы без ответа. Тем не менее переоценить значение ермолаевского фильма просто невозможно, ибо каким бы он ни был, он был первым, ибо он содержал в концентрированном виде практически все мыслимые аспекты киноиудаики — ситуации, персонажей, поэтику. Киноиудаики, которая уже стояла на пороге. И потому я позволил себе уделить столько внимания картине, которая вряд ли заслуживала бы столь подробного разговора применительно к кинематографиям «нормальным», прошедшим путь описания, осмысления и анализа Холокоста неторопливо, последовательно и основательно.
Спустя два года в тысячах километров от Москвы, в Алма-Ате, никому еще не известный казахский режиссер Калыкбек Салыков снимает поразительно похожую на ермолаевскую картину ленту «Любовники декабря», на первый взгляд не имеющую ничего общего ни с Холокостом, ни с гитлеровской оккупацией Одессы, ни с библейской метафорикой, но тем не менее необыкновенно близкой ей по духу, по мировосприятию, по поэтике, по жанру. Правда, в отличие от фильма Ермолаева, в этом мистическом триллере зрителю не очень ясно, что происходит. Понятно лишь, что вокруг одного из героев картины (его зовут Аарон), действие которой разворачивается в каком-то кафкианском городском пейзаже, сгущается некая социальная тьма. Неведомо куда исчезают люди, с которыми его что-либо связывает, — сначала муж любовницы, затем его собственная мать. За ним неотступно следуют какие-то люди в черном, и кольцо вокруг него и возлюбленной сжимается все туже, а вчерашние друзья оказываются в числе загонщиков. Спецслужбы уже действуют совершенно открыто, и возлюбленная в конце концов сходит с ума от ужаса. И тогда Аарон берется за оружие и выходит на улицу, где его расстреливают в упор. А в финале зрителя приглашают встретиться со следователем, ранее допрашивавшим Аарона, а теперь диктующим отчет об уничтожении некоей антиправительственной организации.
Иными словами, иудейский персонаж выступает здесь как своеобразный медиум, как супержертва трагического абсурда, как метафора беззащитности любого человека перед лицом анонимной власти и Зла вообще. И хотя оба этих фильма не дошли до зрителя, ибо, как и подавляющее множество других, не имели проката, однако как некий знак никем еще не использованных в этом плане возможностей осознания метафизической судьбы нации, в подсознании отечественного кинематографа какой-то след оставили.
А это было тем более важно, что кино отечественное, тогда еще советское, проходило за годы перестройки путь осознания своих возможностей в поразительном, все ускоряющемся темпе и ритме. Не прошло и двух лет после ермолаевской картины, а на экраны вышла лента еще одного дебютанта, на этот раз из Киева, Леонида Горовца, который вскоре после дебюта перестанет быть кинематографистом украинским и отправится на свою историческую родину, где снимет бесцветную, если не сказать хуже, картину «Кофе с лимоном», тем не менее отразившую в определенном смысле температуру еврейского сознания в Москве в момент массового выезда времен «перестройки».
«Дамский портной», снятый по давней, еще шестьдесят пятого года, театральной пьесе Александра Борщаговского, лишенный и тени барочности и символятины, жесткий, сухой, строгий, хотелось бы сказать, документальный, несмотря на отчетливую свою театральную генеалогию. Он и начинается без экивоков, с объявления, расклеенного на улицах осенью сорок первого года оккупационными властями: «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктринерской улиц (возле кладбища). Взять с собой теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян». И все.
Остальное — подробности… Остальное о том, как готовилась к смерти, не ведая о том, что смерть эта ждет их всех, здесь и сейчас, семья старого дамского портного, гениально сыгранного Иннокентием Смоктуновским, во внешности которого к старости все отчетливее и выразительнее проявлялись семитские черты.
И это было главное в картине — быт за мгновение до гибели, привычная, размеренная еврейская жизнь, пусть под пятой оккупантов, пусть в обстановке все усиливающегося психического нажима, унижения, насилия, смертей. Пусть съеживающаяся до размеров тесной квартирки где-то на окраине. Но все-таки жизнь, кстати сказать, именно в таком виде — как погром, как ожидание погрома — закодированная в еврейской генетической памяти на этой земле, еще не забывшей ни геноцида времен Хмельницкого, ни погромов времен Романовых, Петлюр, Буденных, Пилсудских, Махно, Боженко, красных, зеленых, черных, белых — всех цветов отечественной истории, кровавой радуги еврейского бытия на российской земле, — ни большевистского террора совсем недавних, тридцатых годов…
Так что ощущение того, что все уже было, и все прошло, что удастся пережить и это, позволяет смотреть в будущее, каким бы страшным оно ни было. Тем более что живут в памяти украинского еврейства и другие воспоминания — о цивилизованных, можно сказать, доброжелательных немецких оккупантах образца восемнадцатого года, для которых важнее всего был порядок, орднунг. Быть может, и эти посвирепствуют самую малость и остынут, наведут порядок среди озверевшего от ненависти туземного населения, мгновенно сообразившего, что можно поживиться имуществом и жильем предназначенных на убой соседей. Тем более что и в объявлении можно увидеть подтверждение этим надеждам — а кто, как не евреи, научились читать между строк за годы советской власти — и про теплые вещи, и про белье… К тому же ходят слухи, что будет много вагонов, целые эшелоны. И евреев повезут куда-то на работы, на новые места…
Мне кажется, что отечественный экран не знал ничего подобного с тех давних пор, когда на той же киевской студии Марк Донской снял «Непокоренных», а в них удивительный по тем временам и невозможный по временам последующим эпизод о евреях, в котором, словно в некоей завязи, содержался весь будущий фильм Горовца. И дело не в том, видели ли авторы «Дамского портного» картину Донского. Они могли ее и не видеть, ибо в генетической памяти еврейского кинематографиста этот сюжет существовал задолго до того, как выплеснулся на экран. Как существовал и образ старого Исаака, единственного из тех, кто провидит недалекое будущее, но знает, что еврею во все времена надлежало жить так, словно впереди у него вечность, а когда начнется погром, то умереть с еврейским достоинством, не прося о пощаде и милости. Ибо сказано было некогда в порыве странного вдохновения: «Не важно, где умереть, важно, где воскреснуть».
Подобное мгновенное высвобождение кинематографической энергии во все стороны отечественного репертуара не обходилось без убытков, далеко не полностью и адекватно осознаваемых участниками и современниками этого процесса. Поскольку репертуар этих первых «свободных» перестроечных лет отличался невиданной ни до, ни после хаотичностью, ибо все неосуществленное десятилетиями вырвалось на производственный простор почти одновременно, создавая невиданный информационный шум, не позволяя оценить ни диапазон разрешенного, ни тем более его качество, ни хотя бы основные направления кинопроцесса, его существенные и несущественные векторы.
И я, спустя добрый десяток лет выстраивая их в некую последовательность, не могу отрешиться от ощущения того, что эти годы восторженной и наивной радости были эпохой великого множества больших и малых кинематографических открытий, зачастую не замеченных ни критикой, ни зрителем, ни даже авторами. Мало того, они были первой эпохой в истории советского кино, когда оно развивалось по своим внутренним, не навязанным никем законам и канонам, торопясь, захлебываясь, спотыкаясь, не обращая внимания на потери и издержки. Осваивая то, что не могло быть освоено раньше, открывая то, о чем прежде оно не могло иметь представления.