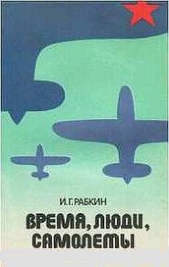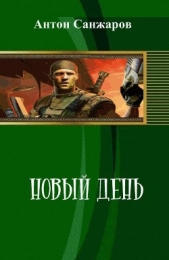Секрет политшинели

Секрет политшинели читать книгу онлайн
Автор книги – участник Великой Отечественной войны. Книга посвящена бойцам и командирам Ленинградского фронта. Герои книги – студенты ленинградских вузов, 60 тысяч которых сражались в народном ополчении против фашистских захватчиков. В основу книги вошли публиковавшиеся ранее повести из книги «Приказа умирать не было», а также шесть рассказов на ленинградскую фронтовую тему. Книга представит наибольший интерес для молодых людей и будет способствовать воспитанию в них патриотизма и любви к Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Смотри, – говорю я ему, – мимо не проливай. Каша, как-никак, нашенская!
– Ничего! – говорит. – Под бомбежками не проливал. А тут уж как-нибудь!
Немцы, получившие кашу, особенно мамаши с детьми, проходя мимо меня, свое «данке» говорили. Я, конечно, это слово знал. Не раз, бывало, на дорогах войны отломишь военнопленному фрицу кусок своей пайки или махорки отсыплешь, так он тоже тебе «данке» говорит. «Спасибо» это по немецкому языку. Короче, установился с моей помощью порядок.
Очень скоро после всего этого приезжает сюда на «виллисе» какой-то полковник. Я его не сразу за делом заметил. Девчушка одна подсказала, что меня начальник окликает. Подбежал я к нему и докладываю:
– Товарищ полковник! Старший сержант Тимохин. Нахожусь при исполнении обязанностей по наведению порядка при раздаче населению каши. Разрешите продолжать наводить?
Полковник такой строгий-строгий. Замечания никакого мне не делает, но спрашивает:
– А кто вам приказал наводить тут порядок?
– По собственной инициативе, товарищ полковник. Поскольку без моей инициативы тут сутолока творилась.
Полковник еще строже на меня глянул:
– Назовите еще раз свою фамилию и номер части.
Назвал я ему. А он говорит:
– Хорошо, старший сержант Тимохин. Я о вашем поведении доведу до сведения командования и попрошу отправить вас в комендатуру.
Он велел водителю трогать, а я так и остался стоять с поднятой к пилотке ладонью.
«За что? – думаю. – Чего я такого совершил, чтобы меня в комендатуру? И какое он мог увидеть с моей стороны поведение? Не было у меня никакого поведения!»
Не знаю, сколько я так стоял… Потом свистнул своим помощникам.
– Извините, – говорю, – если вас за мою инициативу тоже всех в комендатуру загребут.
Пошел я с той площади прочь, в сторону своей части. Иду невеселый. Настроение – хуже некуда, как говорится, не подходи – взорвусь!
Вхожу я на другую площадь и вижу множество наших бойцов. Все стоят толпой, лицом в круг повернуты. А в круге пляска идет под два баяна. Пляшут по очереди кому не лень. Отплясавшиеся из круга выходят – парни наши и девушки-солдаты, рукавами лица обтирают, смеются, веселятся… Смотрю, из толпы наружу наш Жорка Некрасов выбирается. Мокрый весь хоть усы выжимай. Эх, думаю, не сплясать ли и мне русского?! Не дать ли жару здесь, на берлинском асфальте? Второй раз когда еще представится? Эх, была не была – перепляшу свое дурное настроение, дам все-таки душе выход наружу.
Подошел я к этому Жорке.
– На, – говорю, – подержи мой автомат. На, – говорю, – и пилотку подержи. На, – говорю, – ремень мой тоже подержи. Не люблю плясать подпоясанным. Пусть лучше гимнастерка, как рубаха, свободно вращается – охлаждение воздушное создает.
Принял он от меня всю эту амуницию, а я, растолкав толпу, ринулся в самый круг, точно в воду нырнул. С криком нырнул, с гиком, будто с Кавказских гор сорвался… Но по пляске моей сразу расшифровали, что я не чеченец и не ингуш, а самый настоящий русский человек…
Сперва я «молодочкой» по внутреннему обводу толпы прошелся, чтобы войти во внимание баянистов, потом остановился, перехлоп ладонями сделал да как гаркнул: «Сыпь, сыпь, подсыпай, раскатывай скорость!» Ну и начал давать жизни!..
Тяжело, конечно, вприсядку в кирзовых, но ничего, отбарабанил лихо. Потом ладонями на асфальт кинулся и давай вокруг них круги на носках описывать. Вокруг одной руки круга три прокрутился, вокруг другой столько же. Потом вскочил – пошел козырем: одна рука под затылок, другая на поясе, ноги подскоками идут. Ну а за этим, само собой, опять присядка. Когда из нее вышел, обе руки на пояс положил, ногами дробь на месте дал… Поскольку баянисты в моем темпе шпарили, я всех других плясунов своей скоростью быстро из круга выплясал.
Скажу прямо – ни до, ни после я так не плясал, как тогда, на той, на берлинской мостовой! А тут еще хлопки, подсвист, выкрики на тему «давай-давай»… Доплясался я до того, что баянисты устали. Между собой перекивнулись и на спокойную музыку перешли. Я понял намек и пошел себе из круга на выход проталкиваться. Все меня за руки так и дергают со всех сторон, папиросы суют – кто штуку, кто целую пачку «Казбека». И так я на выходе через это скопление личного состава был задерган и закружен, что не на то направление из круга вышел, где меня Жорка Некрасов ожидал… Побрел я без ремня и без пилотки, весь мокрый от пота искать этого усатого, как вдруг из боковой улицы выбегает на площадь замполит товарищ Самотесов, во главе двух бойцов из нашей роты. Оба эти бойца в полной амуниции и с винтовками, точно в караул собрались.
Завидел меня замполит, аж остановился в своем беге и закричал:
– Вот он где! Держи его! Стой, – кричит, – Тимохин! Не шевелись – хуже будет!
Тут все трое ко мне подбегают. Я хотел встать по стойке, а мне один боец стал руки назад закручивать. Я его, конечно, от себя отряхнул. Замполит приказывает:
– Смирно, Тимохин! Отвечай, что ты натворил? Почему в таком виде фигурируешь?
– Ничего, – говорю, – я не натворил. А в таком виде – потому что плясал.
– А где же, – говорит, – твоя форма одежды? Где ремень? Где головной убор? Где личное твое оружие?
Я говорю:
– У Некрасова.
– Может, скажешь еще – у Пушкина?!
– Нет, – говорю, – именно у Некрасова. У которого усы и лицо рябое.
– А почему это все у него, а не у тебя?
– А потому что я в круг плясать заходил.
– Ну, хорошо, – говорит замполит, – ты еще попляшешь!.. Ведите его!
Я говорю:
– За что вы меня в таком виде ведете, если сами не знаете за что?
– А за то, – говорит, – что в Берлине еще комендатура не успела оформиться, а тебя туда уже приказано отправить. И такая честь, значит, именно тому батальону, где замполитом лейтенант Самотесов! А ведь я тебя предупреждал, Тимохин, насчет твоих настроений. Молчи уж теперь, потом будешь объясняться!
Повели меня было в таком негодном виде. Кое-кто из наших и даже из немцев смотреть на меня начали. Но тут, на мое счастье, Жорка Некрасов объявился с моим ремнем, и с пилоткой, и с автоматом. Подтвердил, что я ни в чем, кроме пляски, не замешан и сюда пришел в аккуратном своем виде. После этого пошли мы все в батальон нормально, безо всякого конвоирования меня со стороны тех двух солдат. Я нарочно старался позади их вместе с политруком идти.
В батальоне к этому времени все объяснилось. Для вновь созданной комендатуры Берлина собирали по полкам самых сознательных солдат. И на меня персональный приказ пришел: откомандировать в распоряжение комендатуры.
– Служу, – говорю, – Советскому Союзу, конечно. Только разрешите попроситься в своей части остаться. Я и так с фронта на фронт перекинутый.
– Ничего, – говорят, – не можем сделать. Приказ и для тебя, и для нас одинаковую силу имеет. Так что собирайся.
Командир батальона пожал мне на прощание руку, объявил благодарность за службу. А замполит Самотесов искренне меня обнял и поцеловал.
– Спасибо, – говорит, – тебе, Тимохин, за то, что не посрамил меня и всей своей боевой части.
Оказался я таким манером в батальоне при Берлинской комендатуре в подчинении, само собой, того полковника, который меня во время раздачи каши на площади к себе в блокнот зафиксировал. А ведал он пропитанием гражданского населения, поскольку весь Берлин в то время на довольствие к нам, к армии победителей, был поставлен.
И что, бы вы думали, мне приказали делать? Поручили раздавать согласно списку продовольственные карточки тем жителям, которые сами, по болезни, не могут заявиться в комендатуру!
Сперва я, конечно, опять упал духом. Решил, что это издевательство надо мною лично и над моим шестым чувством. Не за этим я из Ленинграда в Берлин шел, чтобы здесь немцам продовольственные карточки раздавать. Хлеба по ним положено на день сто пятьдесят – двести граммов. Мяса – двадцать пять. Картофеля – четыреста. Сахару – десять. И еще кофе настоящего на день по два грамма!