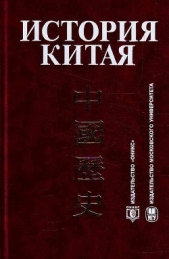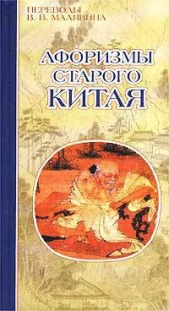Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин
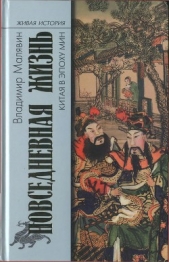
Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин читать книгу онлайн
Правление династии Мин (1368–1644) стало временем подведения итогов трехтысячелетнего развития китайской цивилизации. В эту эпоху достигли наивысшего развития все ее формы — поэзия и театр, живопись и архитектура, придворный этикет и народный фольклор. Однако изящество все чаще оборачивалось мертвым шаблоном, а поиск новых форм — вырождением содержания. Пытаясь преодолеть кризис традиции, философы переосмысливали догмы конфуцианства, художники «одним движением кисти зачеркивали сделанное прежде», а власть осуществляла идейный контроль над обществом при помощи предписаний и запретов. В своей новой книге ведущий российский исследователь Китая, профессор В. В. Малявин, рассматривает не столько конкретные проявления повседневной жизни китайцев в эпоху Мин, сколько истоки и глубинный смысл этих проявлений в диапазоне от религиозных церемоний до кулинарии и эротических романов. Это новаторское исследование адресовано как знатокам удивительной китайской культуры, так и тем, кто делает лишь первые шаги в ее изучении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здесь мы подходим к моменту резкого качественного изменения в самой природе знания или, точнее, перехода к собственно стратегическому знанию. Речь идет о переориентации познания с исследования внешних обстоятельств на обретение некоего внутреннего, самодостаточного знания. Мудрый полководец, утверждает традиция китайской стратегии, всегда обладает неким «утонченным» и «одухотворенным» (или «божественным»), не доступным простым людям знанием, которое предваряет всякое предметное знание. Мы имеем дело с реальностью, которая не может быть представлена в образах или понятиях, а непосредственно свершается в духовной практике человека. В конце концов, речь идет о знании бесконечной дифференцированности самого момента начинания, которое в каждый момент времени «начинается», «начинает начинаться», «начинает начинать начинаться» и т. д. Такое кажущееся со стороны почти волшебным знание позволяет гениальному стратегу предвидеть ход событий, упреждать действия неприятеля и даже точно определять место и час нанесения решающего удара по противнику, не умея дать своему знанию предметное содержание, действуя как бы интуитивно.
В итоге познание жизни как стратегии преследует цель не накопить факты, а, наоборот, освободиться от бремени информации и сосредоточиться на внутреннем континууме просветленной воли. Знание китайского стратега предстает в своем роде парадоксальным сочетанием предельной сосредоточенности на «текущем моменте», безупречного «соответствия обстановке» и полной открытости миру и даже, точнее, открытости сокровенному зиянию Пустоты. Мудрому стратегу, по китайским понятиям, успех дается без видимых усилий. Ибо в конце концов нет ничего более естественного и непринужденного, чем встреча пустоты с пустотой. И ничего более действенного: полководец, обладающий «предвидением», не может не владеть инициативой.
Из сказанного следует, что китайская стратегия не признает приоритета субъекта и, соответственно, не знает столь трудноразрешимых для европейской мысли вопросов о соотношении целей и средств, частного воздействия и всеобщего действия. Она знает только со-действие, иерархию уровней мировой гармонии, согласие звука и эха, где невозможно отыскать причину и реальный звук уже неотличим от его эха; где есть только метафора истины. Поэтому она ориентирует на соединение предельной неопределенности и предельной заданности. В ее свете акт свободы есть претворение судьбы.
Мудрый стратег, по китайским представлениям, не имеет своего субъективного «я», он опознает в себе «всеобъятное сердце». И природа этого сердца есть всеобщая со-бытийность. Принцип со-бытийности всего сущего объясняет, каким образом китайский стратег может быть всегда «адекватен» ситуации: мудрый не делает мир «объектом» своей мысли, но открывает свое «сердечное», со-чувствующее сознание необозримому полю опыта, самому зиянию Небес. Он не управляет внешними событиями и не реагирует на них, но — следует (инь, шунь, суй, сюнь) «семенам» метаморфоз.
Поистине, всякое событие становится со-бытийностью, рассеиваясь в бесконечно сложном сплетении жизненных каналов тела, в конечном счете — пустотной «единотелесности Пути». Недаром фундаментальная метафора китайской духовной традиции есть образ «вечно вьющейся нити», свивающейся — разовьем этот образ — в бесконечно сложный узел «срединности». Выражаемая образом вьющейся нити идея внутренней преемственности, проницающей отдельные явления, есть не что иное, как тело, взятое в его энергетическом аспекте. Так, движение энергии (ци) в физическом теле китайцы уподобляли «прохождению нити через девять извилин» (Девять Извилин — традиционное в Китае название лабиринта и одновременно траектории циркуляции энергии в мире). Тело — это среда и условие реализации всего сущего, тогда как событие представляет собой момент актуализации телесного бытия.
Действие, удостоверяющее полноту телесного присутствия, не призвано ничего выражать или даже обозначать. Оно есть в действительности акт сокрытия, который освобождается от самого себя, сам себя скрывает; это акт абсолютно естественный и спонтанный. Освободиться от себя — значит претерпеть превращение, открыть новое качество своего состояния. Вот почему китайское «следование» завершается «превращением»; оно несет в себе творческое начало.
Вернемся в минскую эпоху и посмотрим, как традиционный идеал стратегической мудрости влиял на жизненную философию образованных людей того времени. Эти люди за редким исключением не были военными стратегами. Многие из них даже предпочли престижу, но и опасностям служебной карьеры жизнь независимого ученого с репутацией эрудита и бессребреника (тоже в своем роде стратегическое решение). Но традиция властно задала им исходный пункт их мировоззрения: приверженность к духовно-нравственному совершенствованию, которое ведет к сопричастности творческой силе мироздания, дарующей чистую радость жизни.
Стратегия духовной жизни парадоксальна: в ней побеждает тот, кто сумеет прежде победить себя. Со времен Лао-цзы жест ухода, отстранения стал в Китае мерилом духовной зрелости личности. Все творчество минских «людей культуры», как и вся их жизнь, отмечены печатью целомудренной интимности. Эти люди пишут стихи и картины по случаю, экспромтом — встречаясь или расставаясь с другом, открывая для себя новый прекрасный вид или предаваясь «томительному бдению» в ночной тишине. Они делают так потому, что превыше всего ценят свежесть и непосредственность чувства и предназначают свои произведения для того, кто поймет их без слов. Сама форма их произведений чужда публичности: в поэзии это лирическая миниатюра, в живописи — лист из альбома или свиток, который хранят свернутым и лишь изредка разглядывают в одиночестве или в компании близких людей. Сами литераторы не слишком заботились о судьбе написанного, и обычно только после их смерти родственники и друзья издавали собрание сочинений, стремясь сделать его как можно более полным. Ведь им было дорого не столько литературное совершенство, сколько подлинность переживания, поддерживавшая память о человеке. Литераторы позднеминского времени вообще стали предпочитать сказанное неуклюже, но искренно, словам гладким, но фальшивым. Впрочем, отношение каллиграфов и живописцев той эпохи к своему творчеству как к пустяку, почти ребяческой забаве только разжигало пыл коллекционеров, для которых в творчестве художника было ценно решительно все.
Мы коснулись тех качеств художественной культуры, которые делали ее способом памятования о человеке и, следовательно, способом бытования традиции. Интимно пережитая новизна возможна лишь там, где есть понимание предварявшего ее опыта. Акцент «людей культуры» на искренности переживания с неизбежностью требовал от них энциклопедической образованности, огромного запаса книжных знаний и, как следствие, тщательной артикулированности, выверенности поступков и мыслей. Но, главное, это требование «жизненной подлинности» предполагало память сокровенного преемствования духа, непрестанного «сердечного усилия», душевной зрелости, опыта само-превозмогания, само-про-из-растания. Здесь и скрывались истоки популярнейшего в старом Китае мотива «трудностей учения»: нелегко вызубрить свод канонов и комментарии к ним, но стократ труднее преодолеть умственную косность, добиться безупречной ясности сознания.
Превзойти себя означает себя устранить — и открыть неисповедимые горизонты совместного и собирательного знания, подлинного со-знания. Так жест самосокрытия «человека культуры», обнажая предел человеческого общения, выступал залогом безусловной сообщительности людей. Удивительно ли, что возвышенный муж, удалившийся от общества, традиционно считался в Китае не менее нужным «великому делу» правления, чем государь? В политике, как и в укромной дружбе, герою традиции следовало предлагать себя правителю (и всему обществу), но никогда не сходиться с ним в цене. И если он, как говорили в Китае, «не встречал судьбы» и погибал от руки тирана, тем самым он еще более укреплял веру в правоту своего дела.