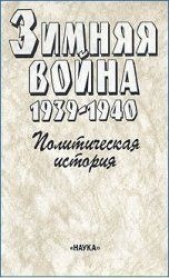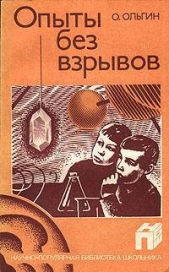Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России
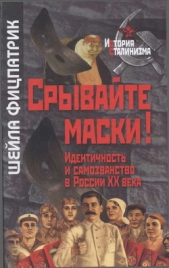
Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России читать книгу онлайн
Работа Шейлы Фицпатрик, специалиста по советской социальной, политической и культурной истории, посвящена проблемам индивидуальной идентичности в советском обществе, процессам ее «переделки» после революции 1917 г. и их социальным последствиям, а также начальному этапу новой трансформации идентичности после распада Советского Союза.
Книга предназначена для специалистов-историков и для широкого круга читателей, интересующихся советской и российской историей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Образ политического лидера как благосклонного отца, жалеющего и защищающего своих детей, или надежного, понимающего друга часто возникает в письмах. «Будьте родным отцом» и спасите нас от религиозных соблазнов, заклинает Сталина ленинградская комсомолка. «Я прошу Вас как родного отца, как друга народа», — пишет Румянцеву обманутая жена. Безутешный вдовец (см. с. 185) обращается к Сталину как к «единственному другу, который глубоко понимает человеческую душу».
Авторы писем то и дело взывают к справедливости. «Где правда и справедливость?» «Товарищи, ответьте нам, пожалуйста, где добиться правды?» «Если есть справедливость у советской власти, накажите этих людей…» {338} Не менее часто идет речь и о долге, но только в одном специфическом контексте: «Я считаю своим долгом (партийным долгом, долгом гражданина) передать…» — одна из стандартных преамбул доноса {339}.
Стиль
Взаимосвязь между советскими письмами во власть и дореволюционными петициями еще предстоит исследовать, но уже сейчас ясно, что многие письма 1930-х гг. написаны по правилам, которые гораздо старше советской власти. Образ представителя власти как «любимого отца», призывы к справедливости (без упоминания о законе), жалобы в высшую инстанцию на злоупотребления местного начальства, патетические строки о «крошке хлеба», коей столь часто не бывало во рту у авторов писем, — все это стандартные приемы петиций и в XIX в., и в 1930-е годы {340}.
В середине 1920-х гг. один советский ответственный работник классифицировал письма граждан по поводу налогообложения следующим образом: 1) петиции, отпечатанные на машинке юристами,, цитирующими законы и административные постановления; 2) петиции, написанные от руки писарским почерком («большие письма с завитушками»), с аргументацией в основном эмоционального, а не юридического характера; 3) личные просьбы, зачастую с автобиографическими подробностями, кое-как нацарапанные на грязных клочках бумаги {341}. В 1930-е гг. процветал третий тип писем, первый практически исчез, а второй сохранился главным образом в деревне, знакомые писарские «завитушки» украшали некоторые письма оттуда вплоть до войны.
Авторы нередко уснащали свои письма литературными или историческими примерами. «Голос колхозников помирает, глас в пустыне вопиющих», — писал один крестьянин (это сравнительно редкий случай включения в текст письма библейской цитаты). «Сживают меня с бела света, как сживала Пушкина черная свора палачей Николая 1-го», — с пафосом восклицал другой. Рабочий предупреждал, что вождей, отрывающихся от масс, может постичь судьба «героя мифа Антея», которого «оторвали от земли матери и задушили в воздухе, и у него лишь сила мать земля, как породила его» {342}.

Светлана Бойм, опираясь на литературные и кинематографические источники, недавно предположила, что графомания — тяга к писательству у людей, не имеющих литературного таланта, — в XIX в. характерная в основном для интеллигенции, в советский период вышла за пределы привычного ареала и стала «всенародной» болезнью {343}. Не отвлекаясь на вопрос наличия или отсутствия литературного таланта, скажем: жажда писать ради самого писания очень заметна в письмах населения 1930-х гг. В них часто чувствуется, какой восторг и наслаждение доставляет авторам способность пользоваться письменной речью, и это напоминает читателю, как недавно некоторые из них приобщились к грамоте. Такие письма порой способны растрогать историка (и несомненно трогали первоначальных адресатов).
Письма во власть наверняка в равной мере представляли собой (или, по крайней мере, могли представлять) своеобразную форму народной культуры и проявление народного творчества, подобно любительским спектаклям и игре на балалайке, которые часто заносились в эту графу. Грань между писанием писем и писательством в литературном смысле в народе была тонка, и есть свидетельства, что многие писатели-любители ее не проводили. Читатели, забрасывавшие «Крестьянскую газету» жалобами, доносами и запросами, столь же стихийно слали в газету «художественные» произведения — рисунки (см. рис. 6), стихи, рассказы — надеясь увидеть их напечатанными {344}. [135] Порой жанровые различия просто стирались: анонимные инвективы против советской власти излагались классическими катренами, письма о «злоупотреблениях начальства» иллюстрировались карикатурами. В одном случае автор/художник закончил письмо просьбой взять его карикатуристом в газету {345}.

Еще один пример зыбкости границ между писанием писем и народным творчеством в почте «Крестьянской газеты» — эссе в форме сказки, озаглавленное «Подвиги хулигана-плута Тычинкина С. М»: «В темной деревушке д. М. Кемарах… гремело имя колхоза “1-е августа”… Почему он рос, в кого был прислан коммунист Васеев И. И. с советской душой и коммунистическим сердцем, Васеев вина в рот не брал, вся масса любила Васеева… но кто растаскивал колхоз, тому стало скучно жить с Васеевым, растаскивать колхоз не дает, бросились на Васеева, хотели изжить Васеева, но стойкий коммунист отбросил далеко негодяев. Кто был главарем негодяев, Тычинкин Степан Михайлович… И не было избиению и хулиганству конца… писать не хватает газеты…» {346} Коллективные авторы просили газету «поместить нашу заметку» [136]. Такое желание высказывалось очень часто, несмотря на то что осуществлялось крайне редко. Многие авторы писем в газеты намекали на обязательность публикации, давая им заголовки, обычно по образцу заголовков из советской печати: «Кто из них классовые враги?», «Примите меры», «Незаконное дело», «Не вредительство ли это?» {347}. Колхозный ветеринар В. В. Смирнов (судя по изящному почерку, возможно, бывший писарь) предпослал своему доносу на председателя колхоза целый набор декоративно оформленных лозунгов (см. рис. 7):
«Серьезный сигнал из колхоза “Красного Потягина” Вятского сельсовета Большесольского района Ярославской области.
Врагам советского народа не может быть пощады.
Покрывают врагов -- Ненаказанные преступники --» {348}.
Даже письмам не в газеты авторы иногда давали заголовки {349}. Это возвращает нас к вопросу о «публичности». Учитывая ничтожные шансы на публикацию письма, но гораздо большие шансы на некую официальную реакцию (расследование спора, наказание обидчика, ускоренное предоставление недостающих благ), рациональной целью писем следует считать не публикацию, а официальное вмешательство [137]. Однако многие их авторы настаивают на обратном. Это заставляет предположить, что поток читательских писем, хлынувший в газеты и журналы в эпоху горбачевской гласности, — не случайное явление {350} и что советские авторы писем, возможно, всегда хотели увидеть их напечатанными и сделать свое мнение достоянием общественности.