Писатели и советские вожди
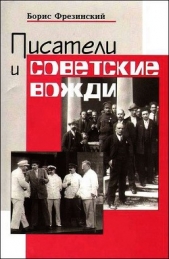
Писатели и советские вожди читать книгу онлайн
Историк литературы и публицист Борис Фрезинский — автор книг «Судьбы Серапионов», «Все это было в XX веке (заметки на полях истории)», «Илья Эренбург с фотоаппаратом»; биограф Ильи Эренбурга, публикатор и комментатор его сочинений, а также работ Н. И. Бухарина и других авторов; его перу принадлежат более 250 статей и публикаций по истории литературы и политической истории русского XX века. Новая документальная книга Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» основана на многолетних архивных изысканиях автора.
Книга историка литературы Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» насыщена неизвестными и малоизвестными историческими документами. Она позволяет читателю на конкретных примерах, избегая упрощенных схем и скороспелых выводов, увидеть, как в различные десятилетия советской истории по-разному складывались в стране, оставаясь неизменно сложными, неоднозначными и трагическими, индивидуальные судьбы писателей. А попутно — и как созданная в результате Октябрьской революции система привела к жесточайшей диктатуре Сталина, уничтожившей вождей революции — Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Радека…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это повторилось и в 1965–1966 гг. — из заключительной главы шестой книги, подводящей итоги прожитой жизни, где Эренбург писал о своей молодости: «Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 г., и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик Первой гимназии…», в «Новом мире» имя Николай выкинули, а в книге Эренбург его восстановил [470].
Понятно, что к «Новому миру» официальная цензура, та самая, существование которой лукаво отрицал В. С. Лебедев, относилась свирепее, нежели к издательству «Советский писатель», во главе которого стоял «свой человек» Лесючевский, однако и собственная, редакционная, цензура тоже не дремала. И тем не менее на самом важном в условиях того времени упоминании имени Бухарина Эренбург настоял. Речь идет о 32-й главе (Смерть Сталина), в которой Бухарин был назван как человек, в чьей невиновности Эренбург никогда не сомневался. «Среди погибших, — писал Эренбург о жертвах сталинских репрессий, — были мои близкие друзья, и никто никогда не смог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели» [471]. Разумеется, фамилии Мейерхольда, Членова и Бабеля не могли встретить цензурных трудностей, но Эренбург сознательно назвал их по именам-отчествам, чтобы провести через цензуру «непроходимого» Бухарина. В редакции эта «хитрость» вызвала недовольную реплику заместителя Твардовского А. Г. Дементьева в его критической рецензии на рукопись шестой книги: «Невозможно вуалировать Николая Ивановича» [472], а затем ее включили в общий реестр необходимых исправлений в шестой книге [473]; наконец, Б. Г. Закс, которому Твардовский поручал личные контакты с Эренбургом и доводку рукописи до цензурно приемлемого варианта, в перечне обязательных исправлений указал Эренбургу на это место: «Николай Иванович. Это явно непроходимо. Просьба снять» [474]. Но тут Эренбург стал «насмерть», и редакция была вынуждена представлять главу с «Николаем Ивановичем» в Главлит. А. И. Кондратович подробно описал процедуру прохождения рукописи «Люди, годы, жизнь» через цензуру (Главлит) и отдел культуры ЦК КПСС, где ею занимался лично завотделом Д. А. Поликарпов:
«Поликарпов не любил Эренбурга и боялся его <…> Все части мемуаров Главлит исправно передавал в ЦК, густо расчерченные. Поликарпов ломал над ними голову, а потом вызывал меня и говорил, что это нельзя и это нельзя печатать, а вот это надо просто каленым железом выжечь. И каждый раз я говорил: „Но он же не согласится“, или иногда с сомнением: „Попробуем, может, уговорим“. Но Эренбург ни за что не соглашался менять текст, а иногда издевательски менял одно-два слова на другие, но такие же по смыслу. И то было хорошо. Я показывал: „Видите, поправил“, и, к моему удивлению, с этими лжепоправками тут же соглашались. Вскоре я разгадал эту игру отдела. Им нужно было на всякий случай иметь документ, свидетельствующий о том, что они читали, заметили происки Эренбурга, разговаривали с редакцией, и Эренбург все же что-то сделал. Мало, но ведь все знают его упрямство… Но нехитрые правила этой игры я не мог передать Эренбургу — ему ничего не стоило об этом где-нибудь рассказать, а то и написать» [475].
Не надо, однако, думать, что эта, чуть-чуть мифологизированная, процедура повторилась бы, попади на стол Поликарпову рукопись, в которой Эренбург написал бы все как было и теми словами, которые у него, бывало, находились для стихов. Рукопись Эренбурга попадала на стол Поликарпова, предварительно пройдя два цензурных круга — авторский (Эренбург вынужден был о многом умалчивать, о многом лишь намекать и, всяко, выражаться очень взвешенно во всех случаях, когда речь шла о «запретных» темах и событиях) и редакционный. Силу этого последнего пресса не следует преуменьшать: переписка Эренбурга с Твардовским, Кондратовичем, Заксом, перечни редакционных поправок подтверждают, что «Новый мир» вовсе не желал для себя лишних неприятностей, готовя рукопись Эренбурга к печати, и не только масса эпизодов, высказываний и выражений, но и несколько глав целиком редакция не пропустила. Приведенные здесь примеры с Бухариным также подтверждают справедливость этого суждения. При этом, разумеется, «Новый мир» был единственным журналом в СССР, который мог в течение шести лет при всех, подчас очень резких, изгибах идеологической политики, продолжать печатание вызывавших временами предельно яростные нападки власти мемуаров Эренбурга.
В первой главе первой книги «Люди, годы, жизнь» была фраза, сразу же обратившая на себя внимание читателей: «Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории» [476]. О многих таких событиях и о нескольких живых людях читатели все же прочитали в мемуарах Эренбурга, но в его читательской почте было немало вопросов на сей счет, тем более что в конце шестой книги, говоря о своем прежнем обещании подробнее написать о Сталине и обо всем, что с этим связано, Эренбург публично назвал это обещание легкомысленным и сказал, что вынужден от него отказаться [477]. Складывалось впечатление, что он отказался от намерения написать и другие главы. Сошлюсь на себя, как на пример, наверное, типичного молодого читателя того времени — в январе 1966 г. я написал Эренбургу о его давнем обещании и, в частности, просил непременно написать о Н. И. Бухарине. Эренбург, не называя имени Николая Ивановича впрямую, ответил, что удивлен моей просьбой: «Главы давно написаны, не могли быть включены в журнал, но, надеюсь, войдут в отдельное издание»…
В черновых планах незавершенной седьмой книги мемуаров, над которой Эренбург работал в 1967 г., значится глава о Бухарине. Как позволяет установить реконструкция точного плана седьмой книги [478], глава о Бухарине должна была стать тридцатой (инфаркт сразил Эренбурга в момент работы над 21-й главой) и, судя по ее расположению в плане, начинаться рассказом о встрече с вдовой и сыном Николая Ивановича. Остается гадать, собирался Эренбург написать еще одну главу о Бухарине или думал переработать уже написанную.
Полный текст мемуаров Эренбурга, в котором были восстановлены все цензурные вымарки, и, в частности, все упоминания и высказывания о Бухарине, увидел свет только в 1990 г., когда перестроечному пафосу реабилитации казненных Сталиным оппозиционеров уже шел на смену внеисторический нигилизм.
Соучастники и жертвы: М. Слонимский и П. Павленко
(Общественно-литературная деятельность в 1931–1934 гг. и судьба их романов)
Дружба писателей Михаила Слонимского и Петра Павленко продолжалась восемь лет, она была неслучайной, горячей и, если на жизнедеятельность Павленко никак не повлияла, то в судьбе Слонимского сыграла определенную и нетривиальную роль. При этом не надо думать, упаси бог, что Павленко оказался для Слонимского злым гением, тем паче, что и сам он, будучи человеком не бездарным, судьбу имел отнюдь не радостную. От дружбы двух писателей остались письма Павленко 1931–1938 годов [479], многое говорящие не только об авторе, но и об адресате (сам Павленко, в отличие от Слонимского, писем либо вообще не хранил, либо уничтожил их в пору массовых арестов в конце 1930-х гг. — поэтому письма к нему Слонимского, увы, не уцелели).
К моменту знакомства Слонимского с Павленко в 1931 г, у каждого из них была вполне определившаяся биография.
























